
|
||
|
|
||
|
|
Онлайн книга - Золотой ключ, или Похождения Буратины. Claviculae | Автор книги - Михаил Харитонов
Cтраница 1

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ АВТОРА
Эти маленькие истории я назвал claviculae, "ключиками". Если есть большой золотой ключ, то почему бы не быть маленьким ключикам — серебряным, медным или даже оловянным, которыми можно открыть тайники и закрытые уровни книги. То есть — узнать что-то раньше, чем это предусмотрено основным сюжетом, заглянуть за угол текста, подглядеть, куда ведёт боковой ход, автором намеченный, но не обустроенный, ну и всё такое. Понятное дело, ключики предназначены для особенно внимательных и благодарный читателей. Но автор тешит себя мыслью, что несколько настоящих ценителей у его творения всё-таки найдутся, и ему приятно вручить им эти небольшие подарки. Ключиками нужно пользоваться в определённой последовательности. Поэтому я везде, где это необходимо, указываю, после какой главы основного текста стоит заглядывать сюда, и до какой — чтобы не было совсем уж поздно. Настоятельно прошу читателя прислушаться к этим рекомендациям — иначе вы только запутаетесь и испортите себе удовольствие. ПЕРВЫЙ КЛЮЧИК, СЕРЕБРЯНЫЙ. ОГРОМНОЖОП И ПРЕКРАСНОХВОСТ
Читать где-то в районе главы 19 первого тома, но никак не позднее 22. Безвременье, около — или поблизости — какого-то часа. Поздняя рань. Места вроде не близкие, но и не столь отдалённые. Вроде бы везде всё есть. А как посмотришь, так многого и не досчитаешься. Однако без этого значимого отсутствия действительность была бы ещё пустее — или, если угодно, пуще, или даже пустошнее, хотя, в общем-то, все эти слова не без изъяна. Но изъян, по крайней мере, налицо, и именно он-то и придаёт — а вот что именно придаёт, так сразу и не скажешь. С другой стороны — а стоит ли внимания то, о чём можно сказать всё и сразу, не потратив ни минуты на созерцание и размышление? Вот дорога. Допустим, она перед нами, а мы на ней. Ну или не мы, кто-то. А может, и что-то. Например, тут могло быть небольшое придорожное кафе с огороженным двориком и выцветшими тентами — с названием, к примеру, "Прорва", или, того лучше, "Перерва": на каком-нибудь языке эти слова непременно хороши, или хотя бы означают что-то хорошее. Но при дороге нет кафе "Прорва", да и вообще ничего хорошего нет. Ах, если б рядом — розовый куст! Он почти доставал бы до полуоткрытого окна, из которого пахло бы гювечем, гиросом и чёрным смоляным кофе. Но — нет, здесь не цветут розы, здесь не варят кофе. Хер здесь варят! — да и того, в общем-то, не дождёшься к столу, ибо хер сыр, сыр хер, сколь долго его не вари, особенно если нет его — как, впрочем, и воды, и котла, и стола, не говоря уж об очаге или открытом огне. Где всё это? Хер знает. Знает, но молчит — чтобы не сварили, а также по другим понятным причинам. Ещё может знать Монтень. Но Монтеня не видно. Незаметно что-то и памятника Монтеню. Хотя он-то как раз должен быть, ведь где-то есть памятник Монтеню — ибо таким людям обычно ставят памятник-другой, а то и все четыре. Однако Монтень, по словам Честертона, не мыслил о еже. Почему сей снисходительнейший гуманист так пренебрегал ежом — решительно непонятно. А когда о человеке что-нибудь решительно непонятно, памятник ему лучше не ставить, вы не находите? Ну а если уж он стоит — не замечать его принципиально? Не отчаиваемся, придумываем себе яблоню, полную мелкими жёлтыми китайскими яблочками, — которые, если тряхнуть ветви, сыплются градом и часто-часто стучат по земле, иной раз попадая по руке или в темечко. Их не нужно есть, нужно слушать стук. Или уж если попробовать, то пихать в рот горстями, немытыми, ощущая вкус сладкой земляной гнили. В одном из яблочек должен был бы быть, наверное, маленький бурый червячёк — но нет и его. А поскольку его нет — он никому ничего не должен, но никому низачем и не нужен. Ох не повредила бы и вкопанная в землю бочка, к которой хорошо прислоняться бедром — тёплым вечером, когда небо уже отполыхало, а земля и вещи благодарно выдыхают тепло. Зажмурившись, слушать ветер, тайно надеясь различить в нём знакомые голоса — а потом пить ракию, настоянную на почечном камне злопипундрия, да палить люльку, да читать Астафьева или Белова, о далёких северных землях, где под звёздами ходят огромные ледяные рыбы. Но где ж бочка? Нет той бочки: сокрушили её сапоги солдат Муссолини, или она пошла на растопку гарибальдийского костра, а может, рассохлась тихо и бесславно в эпоху авиньонского пленения пап. Однако, вероятнее всего, её здесь не было. И в других местах тоже: там были другие бочки — а этой не было. Но это ничего, ибо бочка не повредила бы, но её отсутствие тоже ничему не вредит, ибо и повреждаться-то нечему. Ну хорошо, пусть, пусть так! — но хотя бы след, просто след башмака в пыли! Я сам готов его оставить, если нет других вариантов. Однако — нет, земля не принимает моих следов. Они слишком легки, небрежны и оскорбительны для неё — привыкшей к толстым сапогам поденщиков, к осязательным следам жизни, ненужной для себя самой. Эти слова — чужие, заветные, из Сундука Мертвеца — шелестят у меня в голове, как морской песок на заброшенном пляже: сухое пришёптывающее "слишком", проскальзывающая стёртой щекой галька "подёнщиков", в "осязательным" застряло колкое бутылочное стекло — "с-з". И наплывающий гул прибоя. Я вижу этот звук, именно вижу звук, потом воображение дорисовывает волны. Как звери, бьются они мокрыми лбами о запретный берег — и с зубовным шипом мрут среди водослевых ниток, комочков ила, плевочков-ошмёточков пены, и прочей бессмысленно-мелкой хуйни, из которой и состоит жизнь. Если моя дорога ведёт к этому океану, я поверну назад. Но не лучше ль и вовсе сойти с дороги? Углубиться в развалины пейзажа, в останки невысоких меловых гор, к лесам повернуть движеньем резким, войти под их немые своды и в них утонуть, исчезнуть — чтобы посреди зелёного бескраянья вдруг замереть, созерцая чудо: озерцо с прозрачной водой. Тайное око леса, оно собирает вокруг себя единство путей и связей, на которых и в которых рождение и смерть, проклятие и благословение, победа и поражение, стойкость и падение создают облик судьбы, прозреваемый смертными в его водах. Но нет здесь ни смертных, ни богов. Я же и вовсе не в счёт, ибо меня нет, нет, нет ни для кого. Вот белеется отмель. Она простирается, чтобы луна чертила на ней свои дорожки — да, луна, луна: огромная, сырно-жёлтая, какая бывает только в безветренную ночь. Но нет безветренной ночи, не время для неё, разве только вечер затеплится синий; и, кстати, ещё не факт, что затеплится. Сколько уж было таких вечеров, которые гасли, не теплясь? Зато ленивая стрекоза — как изысканно смотрелась бы она на краешке бокала! но увы, увы, у нас и с бокалами напряжёнка — оседлала острый лист и наблюдает за песчаной квакушкой. Наблюдает лишь затем, чтобы не видеть грозной тени, подымающейся из глубины: ибо в озерце водится огромножоп. Огромножоп! Мутант, порождение тьмы, загадочный огромножоп, он так свиреп и дик, и нет в нём милосердия к живущим, и сочувствия к мёртвым тоже в нём нет ни на скрупул! Он — ужас мира, стыд природы, так что мир и природу извиняет лишь то, что и его нет. |
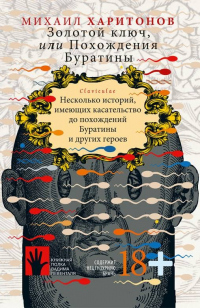
 Вернуться к просмотру книги
Вернуться к просмотру книги
 Перейти к Оглавлению
Перейти к Оглавлению
 © 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно
© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно