
|
||
|
|
||
|
|
Онлайн книга - Картезианская соната | Автор книги - Уильям Гэсс
Cтраница 1

Надпись на стене
Здесь изложена история Эллы Бенд-Гесс — как она стала ясновидящей и что именно умела ясно видеть. В детстве ничто ей этого не предвещало. Я уверен, что дар ее был даром богов, а не следствием каких-то жизненных событий. Это был дар в полном смысле слова: свободный, ничем не заслуженный (и неоплаченный); так даруется, скажем, красота или сошествие ангела — необъяснимо и беспощадно. Или благосклонно. Даже блистательно. Нет, скорее бездушно — бездушно и безумно. Все не те слова, не те. Но так или иначе, начинаться они должны с одной и той же буквы. Видите, насколько я лишен гордости: позволяю вам следить за тем, как, спотыкаясь, подбираю слова. Я мог бы отправить это злосчастное слово подальше и написать первое, что придет в голову, и вы бы ничего не заметили; но мне не дано этой дерзости — дерзости лжеца. Где-то посреди жизненного пути воля моя изнемогла, и теперь меня одолевают угрызения состарившегося вора — свирепые, мучительные угрызения. Если бы можно было исправить все ранее содеянное, вернуть то, что я украл из своих историй за все эти годы! Может быть, тогда моя кровь перестанет бунтовать. Конечно, они просятся на волю, эти фразы, которые я осудил на изгнание, бедные неуклюжие твари, — и заполоняют мои сны. Они напоминают толпу арестантов, бьющихся о решетки камер. Они выкрикивают свои имена, снова и снова. Здесь самое время от души рассмеяться: как там насчет изгнания метафор? Ну ладно, тюрьму я придумал, а больше не буду. Честно ли это, правильно ли? В конце концов, где эта самая Элла Бенд? В листках, что я скомкал и выбросил, осталось ее ничуть не меньше, чем в переписанных набело. Скомкал и выбросил, заметьте, — а там было записано ее имя. Где еще остались следы ее жизни? Помнится, я хотел, чтобы у нее был длинный нос — бог весть зачем. Теперь нос у нее средней длины — можно сказать, нормальный. Я заставил ее петь непристойную песню — глупая выдумка. И выбросил целиком сцену в детской, всю сцену, вы понимаете? Там она входит, полусонная, а испуганный младенец ревет в темноте, беспомощный, как жук, перевернутый на спину. Элла прикасается к нему и чувствует, как ребенок коченеет. Тогда она понимает, какова ужасная причина его испуга, и, раскрыв рот в беззвучном крике, сотрясает кулаками воздух. Я сам ничего подобного не переживал. Каково это — набрасываться на что-то, как паук? В любом случае, по многим принципиальным соображениям этот отрывок следовало выбросить. В сущности, это не я наделил ее длинным носом. У нее и впрямь был длинный нос. Теперь — уже нет. Я решил, что так она слишком похожа на ведьму, а поскольку она и впрямь была ведьмой, неинтересно, если она и выглядеть будет соответственно. Не будь я таким честным, вы про все это никогда не узнали бы — так бы и думали, что у нее был нормальный нос. Вот так-то. Господи, не карай бедных сочинителей! Представьте, как стыдно было бы, напиши я так: «У Эллы Бенд был длинный нос, который я укоротил до нормального размера, поскольку с нормальным носом она меньше походила на ведьму, хотя она как раз-то и была ведьмой». Немного найдется способных выдать такое. Обычно вам сплавляют дешевый товар — на всем стараются сэкономить. Ежели хотите моего совета — не покупайте. «Отрывок» — это правильное слово. «Отрывок». Каждая фраза является отрывком от целого. Итак, я изменил ее жизнь, изменил не авансом, а задним числом, когда все уже закончилось. Вот это — настоящее волшебство, не то что обычная ловкость рук. Что есть наше искусство, как не мастерство сотворения подобий? Я сотворяю фальшивые облики, но такие яркие, что они слепят глаза. Может быть, верное слово там, вначале, все-таки было «беспощадно». Красота часто становится проклятием, ясновидение, по-моему, тоже. Так, и к чему же я клоню? Вы осознаете, что время-то прошло — еще один предмет, о котором все эти ничтожества помалкивают. Много времени. И много чего за это время случается. Умирает моя мать. Я подхватываю пресловутую болезнь. А может, и не случается ничего. Мать не умирает. Я никакой такой болезни не подхватываю. Остаются ли неизменными мои намерения, каковы бы они ни были поначалу? Элле Бенд повезло, она осталась жива. То есть, конечно, она умерла. Но — не здесь. В пределах этой истории она не умирает. В данный момент у нее нет ничего, кроме переделанного носа и испуганных глаз. Подумайте, каково это — больше ничего не иметь, а? Проклятие Кассандры было не в ясновидении как таковом, а в том, что ей не верили. А если допустить, что Кассандра не только умела видеть, но и сама себе не верила? Так было бы куда интереснее. Интересно, понимаете ли вы, зачем мне понадобилось, чтобы все эпитеты начинались на одну букву? На днях я нацарапал двенадцать букв «б» на полях забракованного черновика: бббббббббббб… И они несомненно повлияли на мое сознание. Я дописывал про «сошествие ангела» и все такое, когда уголком глаза заметил этот ряд «б». И тут почувствовал, какая сила в нем таится. Но господи боже, почему? Что может быть абсурднее? Неужели и Бог творил таким манером? Вот посмотрите снова: бббббббббббб… Слышите биение? Разве это не шум ангельских крыл? Не ведьмовский туман? Это — миг обретения Эллой Бенд ее дара. Она прозревает. Ангел нисходит, говоря: «Вот, пожалуйста, прими это и прости». Она прозревает. В детстве ничто ей этого не предвещало. Она была низкорослая и пухленькая. Она носила красное платье, которое застегивалось до самого горла и натирало шею; высокие ботинки, надежные, как мамина любовь, по выражению торговца; толстые чулки с тугими резинками; шароварчики, которые резали кожу; натуго заплетенные косички со светлыми пышными бантами и шерстяные перчатки, которые кусались, когда потели руки. У торговца был чемодан, который очень здорово раскладывался. Даже Элла-старшая с нетерпением ждала, когда он развернется еще раз. Торговец откидывал крышку, раскладывал ее, и внутри оказывался полированный черный поддон для образцов товара с блестящими хромированными зажимами, и туфли выскакивали, «как чертик из коробочки», сказала как-то Элла-младшая, и все рассмеялись. Элла-старшая погладила дочь по белесой головке и решила купить ей пару ботинок. И чемодан раскрылся, выбросив ножки-опоры, а потом раскрывался секрет за секретом, пока не явились на свет белый всякие туфли и ботинки: желтые и даже красные, очень вульгарные и просто чудесные; глядя на них, Элла-старшая чувствовала себя индейцем — алчным и примитивным. Торговец без умолку болтал и улыбался. У него были красивые руки и гладкие черные волосы. — Ну-ка, попробуйте примерить вот эти, — предложил он. Потянул за цепочку, уходящую в недра чемодана, и вытащил рожок для обуви. — Черный цвет очень практичен. Элла вздрогнула, когда он поднял ее ногу. Ботинки были прохладные, но ничем не напоминали материнской любви. — Им сносу не будет. Томас постучал по чемодану. — На вид-то он хорош, — сказала Элла-старшая. — Все так говорят, — подхватил торговец. — Люди всегда хотят знать, какова вещь в работе. Просто мечтают. |
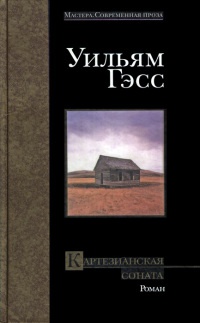
 Вернуться к просмотру книги
Вернуться к просмотру книги
 Перейти к Оглавлению
Перейти к Оглавлению
 © 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно
© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно