
|
||
|
|
||
|
|
Онлайн книга - Любовник смерти | Автор книги - Борис Акунин
Cтраница 1

Как Сенька впервые увидал Смерть
Сначала-то её, конечно, не так звали, а обыкновенно, как полагается. Маланья там или, может, Агриппина. И фамилия тоже имелась. Как же без фамилии? Это вон у Жучки, что по двору бегает, фамилии нет, а у человека беспременно должна быть, на то он и человек. Но когда Сенька Скорик её впервые увидал, прозванье у неё было уже нынешнее. Никто по-другому про неё не говорил, имени-фамилии не помнил. А увидал он её так. Сидели с пацанами на скамейке, перед дерюгинской бакалейкой. Курили табак, лясы точили. Вдруг подъезжает шарабан: шины дутые, спицы в золотой цвет крашенные, верх жёлтой кожи. И выходит из него девка, каких Сенька никогда ещё не видывал, даже на Кузнецком мосту, даже на Красной площади в престольный праздник. Нет, не девка, а девушка или, правильнее сказать, дева. Чёрные косы на голове венцом уложены, на плечах шёлковый многоцветный платок, и платье тоже шёлковое, переливчатое, но дело не в платке и не в платье. Очень уж у ней лицо было такое… даже не выскажешь, какое. Посмотришь — и обомлеешь. Ну, Сенька и обомлел. — Это что за фря? — спросил и, чтоб виду не подать, сплюнул через стиснутые зубы в сторону (дальше всех этак цыкнуть мог, на целую сажень — рот-то с щербиной, удобно). Проха в ответ: мол, сразу видать, что ты, Скорик, у нас недавно. (Сенька и правда на Хитровке тогда ещё только приживался, недели две как с Сухаревки деру дал). Сам ты, говорит, фря. Это ж Смерть! Сенька сразу не сообразил, при чем тут смерть. Подумал, у Прохи присказка такая — мол, смерть до чего хороша. И то — хороша была, не оторвёшься. Лоб высокий, чистый. Брови коромыслицами, кожа белая, губы алые, а глаза — ух, что за глаза. Сенька такие видал на Конной площади, у лошадей туркестанской породы: большие, влажные и при этом будто огоньками светятся. Только у девушки-девы, что из шарабана вышла, глаза ещё лучше были, чем у тех лошадей. Глядит Сенька на расчудесную особу, глазами хлопает, а Михейка Филин табачную крошку с губы смахнул и локтем в бок: ты, говорит, Скорик, пялься да меру знай. А то тебе Князь ухи обрежет и жрать заставит, как тогда барышника волоколамского заставил. Тоже Смерть ему приглянулась, барышнику-то. Вот и допялился. И опять Сенька про “смерть” не слобастил — очень уж сожранными ушами заинтересовался. — И чего этот барышник, сожрал? — удивился он. — Я бы нипочём не стал. Проха пива из горлышка отхлебнул. Стал бы, говорит. Если б Князь тебя по-хорошему попросил, по-вежливому, стал бы как миленький и ещё спасибочки сказал, оченно вкусно. Барышник одно ухо-то пожевал-пожевал, проглотить не может, а Князь ему уж второе оттяпал и сует. И, чтоб поторапливался, пером в брюхо покалывает. После у волоколамца башка вся загноилась, распухла. Повыл пару деньков, да и подох, так и не доехал до своего Волоколамска. Во как у нас на Хитровке-то. Ты, Скорик, мотай на ус. Про Князя Сенька, само собой, слыхал, хоть и тёрся на Хитровке недолгое время. Про Князя кто ж не слыхал? Самый рисковый на всю Москву налётчик. На рынках про него говорят, в газетах пишут. Псы на него охотятся, да только когти у них коротки. Хитровка, она своего не выдаст — знает, что с выдавальщиками бывает. А ухо своё жрать я всё одно бы не стал, подумал Сенька. Лучше уж на нож. — Она чего, Князева маруха, что ли? — спросил он про удивительную деву — так, из любопытства. Решил про себя, что глазеть на неё больше не будет, больно нужно. Да и не на кого было, она уже в лавку вошла. “Фто ли”, передразнил Проха (из-за выбитого зуба у Сеньки не все слова как надо выговаривались). Сам ты, говорит, маруха. На Сухаревке кто пацана марухой обзывал — за такое сразу метелили без пощады, и Сенька прицелился было вмазать Прохе в костлявую харю, но передумал. Во-первых, может, у них тут на Хитровке другие обыкновения и сказано было не в обиду. Во-вторых, Проха — парнище здоровенный, тут ещё поглядеть, кто кого отметелит. А в-третьих, очень уж хотелось про девушку эту послушать. Ну Проха поломался немножко и рассказал. Жила она, как положено, при отце-матери, не то в Доброй Слободе, не то на Разгуляе, короче, где-то в той стороне. Девка выросла видная, сладкая, от женихов отбою не было. Ну и сосватали её, как в возраст вошла. Ехали они венчаться в церковь, она и жених её. Вдруг два кобеля чёрных, агромадных, прямо перед санями через дорогу — шмыг. Если б тогда догадаться, да молитву прочесть, глядишь, по-другому бы сложилось. Или хоть бы крестом себя осенить. Только никто не догадался или, может, не успели. Лошади кобелей чёрных напугались, понесли, и на повороте бултых с бережка в Яузу. Жениха насмерть раздавило, кучер потоп, а девке ничего, ни царапки. Ладно, всяко бывает. Повезли его хоронить, парня этого. Она, невеста, рядом с гробом шла. Убивалась ужас как — очень, говорят, его любила. А как стали через мост переезжать, напротив того самого места, где всё приключилось, она вдруг как крикнет — прощай, мол, народ христианский — да через оградку, да с моста головой вниз. Накануне приморозило, на реке лёд толстенный, так что по всему следовало ей себе башку вдребезги расколотить или шею переломать. Но вышло по-другому. Попала она прямиком в полынью, сверху ледком чуть-чуть заросшую и снежком припорошенную. Ушла под воду с головкой, и нет её. Ну, все думают, потопла. Бегают, руками машут. А её, утопленницу-то, подо льдом саженей с полста проволокло, да из проруби, где бабы бельё стирали, выкинуло. Подцепили её багром или чем там, вытащили. Она по виду как мёртвая была, белая вся, но полежала, отогрелась и опять хоть бы что ей. Живёхонькая. За такую кошачью живучесть прозвали её Живая, а иные называли Бессмертной, но это ещё не окончательное её прозвище было. Потом поменялось. Проходит год или, может, полтора, родители её давай снова замуж выдавать. Девка-то пуще прежнего расцвела. Посватался купчина один, немолодой, но сильно богатый. Ей-то, Живой, всё равно было, за купчину так за купчину. Кто её тогда знал, сказывают, что скучала она очень о женихе своём — о том, первом, что расшибся. И что же? Новый жених за день до свадьбы, в церкви, на утренней, как захрипит, руками заполощет — и брык набок. Ногой подёргал, губами пошлёпал, и со святыми упокой. Кондрашка его прихватил. |
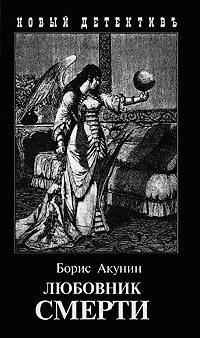
 Вернуться к просмотру книги
Вернуться к просмотру книги
 Перейти к Оглавлению
Перейти к Оглавлению
 © 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно
© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно