
|
||
|
|
||
|
|
Онлайн книга - Похождения бравого солдата Швейка | Автор книги - Ярослав Гашек
Cтраница 195

— С него тоже стащили сапоги? — полюбопытствовал Швейк. — Стащили, — задумчиво ответил Ванек, — но неизвестно кто, так что полковничьи сапоги мы не смогли указать в отчёте. Повар Юрайда снова вернулся сверху, и его взгляд упал на сокрушённого Балоуна, который, опечаленный и уничтоженный, сидел на лавке у печи и с невыразимой тоской разглядывал свой ввалившийся живот. — Твоё место в секте гезихастов, — с состраданием произнёс учёный повар Юрайда, — те по целым дням смотрели на свой пупок, пока им не начинало казаться, что вокруг пупка появилось сияние. После этого они считали, что достигли третьей степени совершенства. Юрайда открыл духовку и достал оттуда одну кровяную колбаску. — Жри, Балоун, — сказал он ласково, — жри, пока не лопнешь, подавись, обжора. У Балоуна на глазах выступили слёзы. — Дома, когда мы кололи свинью, — жалобно рассказывал он, пожирая маленькую кровяную колбаску, — я сперва съедал кусок буженины, всё рыло, сердце, ухо, кусок печёнки, почки, селезёнку, кусок бока, язык, а потом… — И тихим голосом, как бы рассказывая сказку, прибавил: — А потом шли ливерные колбаски, шесть, десять штучек, пузатые кровяные колбаски, крупяные и сухарные, так что не знаешь, с чего начать: то ли с сухарной, то ли с крупяной. Всё тает во рту, всё вкусно пахнет, и жрёшь, жрёшь… — Я думаю, — продолжал Балоун, — пуля-то меня пощадит, но вот голод доконает, и никогда в жизни я больше не увижу такого противня кровяного фарша, какой я видывал дома. Вот студень я не так любил, он только трясётся, и никакого от него толку. Жена, та, наоборот, готова была умереть из-за студня. А мне на этот студень и куска уха было жалко, я всё хотел сам сожрать и так, как мне было больше всего по вкусу. Не ценил я этого, всех этих прелестей, всего этого благополучия. Как-то раз у тестя, жившего на содержании детей, я выспорил свинью, зарезал её и сожрал всю один, а ему, бедному старику, пожалел послать даже маленький гостинец. Он мне потом напророчил, что я подохну с голоду, оттого что нечего мне будет есть. — Так, видно, оно и есть, — сказал Швейк, у которого сегодня сами собой с языка срывались рифмы. 
Повар Юрайда, только что пожалевший Балоуна, потерял всякое к нему сочувствие, так как Балоун быстро подкрался к плите, вытащил из кармана целую краюху хлеба и попытался макнуть её в соус, в котором на большом противне лежала груда жареной свинины. Юрайда так сильно ударил его по руке, что краюха упала в соус, подобно тому как пловец прыгает с мостков в реку. И, не давая Балоуну вытащить этот лакомый кусок из противня, Юрайда схватил и выбросил обжору за дверь. Удручённый Балоун уже в окно увидел, как Юрайда вилкой достал его краюху, которая вся пропиталась соусом так, что стала совершенно коричневой, прибавил к ней срезанный с самого верха жаркого кусок мяса и подал всё это Швейку со словами: — Ешьте, мой скромный друг! — Дева Мария! — завопил за окном Балоун. — Мой хлеб в сортире! — Размахивая длинными руками, он отправился на село, чтобы хоть там перехватить чего-нибудь. Швейк, поедая великодушный дар Юрайды, говорил с набитым ртом: — Я, право, рад, что опять среди своих. Мне было бы очень досадно, если бы я не мог и дальше быть полезным нашей роте. — Вытирая с подбородка соус и сало, он закончил: — Не знаю, не знаю, что бы вы тут делали, если бы меня где-нибудь задержали, а война затянулась бы ещё на несколько лет. Старший писарь Ванек с интересом спросил: — Как вы думаете, Швейк, война ещё долго протянется? — Пятнадцать лет, — ответил Швейк. — Дело ясное. Ведь раз уже была Тридцатилетняя война, теперь мы наполовину умнее, а тридцать поделить на два — пятнадцать. — Денщик нашего капитана, — отозвался Юрайда, — рассказывал, и будто он сам это слышал: как только нами будет занята граница Галиции, мы дальше не пойдём; после этого русские начнут переговоры о мире. — Тогда не стоило и воевать, — убеждённо сказал Швейк. — Коль война, так война. Я решительно отказываюсь говорить о мире раньше, чем мы будем в Москве и Петрограде. Уж раз мировая война, так неужели мы будем валандаться возле границ? Возьмём, например, шведов в Тридцатилетнюю войну. Ведь они вон откуда пришли, а добрались до самого Немецкого Брода и до Липниц, где устроили такую резню, что ещё нынче в тамошних трактирах говорят по-шведски и друг друга не понимают. Или пруссаки, те тоже не из соседней деревни пришли, а в Липницах после них пруссаков хоть отбавляй. Добрались они даже до Едоухова и до Америки, а затем вернулись обратно. 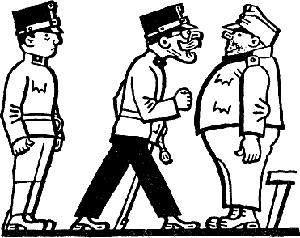
— Впрочем, — сказал Юрайда, которого сегодняшнее пиршество совершенно выбило из колеи и сбило с толку, — все люди произошли от карпов. Возьмём, друзья, эволюционную теорию Дарвина… Дальнейшие его рассуждения были прерваны вторжением вольноопределяющегося Марека. — Спасайся кто может! — завопил Марек. — Только что к штабу батальона подъехал на автомобиле подпоручик Дуб и привёз с собой вонючего кадета Биглера. — С Дубом происходит что-то страшное, — информировал далее Марек. — Когда они с Биглером вылезли из автомобиля, он ворвался в канцелярию. Вы помните, уходя отсюда, я сказал, что немного вздремну. Растянулся я, значит, в канцелярии на скамейке и только стал засыпать, он на меня и налетел. Кадет Биглер заорал: «Habacht!» Подпоручик Дуб поднял меня и набросился: «Ага! Удивляетесь, что я застиг вас в канцелярии при неисполнении вами своих обязанностей? Спать полагается только после отбоя». А Биглер определил: «Раздел шестнадцатый, параграф девятый казарменного устава». Тут Дуб стукнул кулаком по столу и разорался: «Видно в батальоне хотели от меня избавиться, не думайте, что это было сотрясение мозга, мой череп выдержит». Кадет Биглер в это время перелистывал на столе бумаги и для себя прочёл вслух выдержку из одного документа: «Приказ по дивизии номер двести восемьдесят». Подпоручик Дуб, думая, что тот насмехается над его последней фразой насчёт крепкого черепа, стал упрекать кадета в недостойном и дерзком поведении по отношению к старшему по чину офицеру и теперь ведёт его сюда, к капитану, чтобы на него пожаловаться. Спустя несколько минут Дуб и Биглер пришли на кухню, через которую нужно было пройти, чтобы попасть наверх, где находился офицерский состав и где, наевшись жареной свинины, пузатый прапорщик Малый распевал арии из оперы «Травиата», рыгая при этом после капусты и жирного обеда.
|
 Вернуться к просмотру книги
Вернуться к просмотру книги
 Перейти к Оглавлению
Перейти к Оглавлению
 Перейти к Примечанию
Перейти к Примечанию
 © 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно
© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно