
|
||
|
|
||
|
|
Онлайн книга - Похождения бравого солдата Швейка | Автор книги - Ярослав Гашек
Cтраница 184

Генерал полюбил фельдкурата Мартинеца, который сначала явился к нему святым Игнатием Лойолой, а затем приспособился к генеральскому окружению. Как-то раз генерал позвал к себе двух сестёр милосердия из полевого госпиталя. Собственно говоря, в госпитале они не служили, а только были к нему приписаны, чтобы получать жалование, и подрабатывали, как это часто бывало в те тяжёлые времена, проституцией. Генерал велел позвать фельдкурата Мартинеца, который уже так запутался в тенётах дьявола, что после получасового флирта приласкал обеих дам, причём вошёл в такой раж, что обслюнявил на диване всю подушку. Потом он долгое время упрекал себя за такое развратное поведение. Грех свой он не искупил даже тем, что, возвращаясь ночью домой, упал на колени в парке по ошибке перед статуей архитектора и городского головы — мецената пана Грабовского, у которого в восьмидесятых годах были большие заслуги перед Перемышлем. Топот военного патруля смешался с его пламенной молитвой: — «Не осуди раба своего. Несть человека безгрешного перед судом твоим, не разрешишь ли от всех грехов его. Да не будет суров твой приговор. Помощи у тебя молю и в руки твои, господи, предаю дух мой». С той поры, когда его звали к генералу Финку, он несколько раз пытался отречься от всяческих земных наслаждений, ссылаясь на больной желудок. Он верил, что это ложь во спасение и что она избавит его душу от мук ада. Но вместе с тем он считал, что нализаться его обязывает воинская дисциплина: если генерал предлагает фельдкурату: «Налижись, товарищ!» — сделать это нужно хотя бы из одного только уважения к начальнику. Уклониться ему, впрочем, не всегда удавалось, особенно после торжественных полевых богослужений, когда генерал устраивал ещё более торжественные пиры за счёт гарнизонной кассы. Потом в финансовой части все расходы смешивали вместе, чтобы заодно и себе урвать кое-что. После таких торжеств фельдкурату казалось, что он морально погребён перед лицом господним, и это приводило его в трепет. Он ходил словно в забытьи и, не теряя в этом хаосе веры в бога, совершенно серьёзно стал подумывать: не следует ли ему ежедневно систематически бичевать себя? В таком настроении явился он по вызову к генералу. Генерал вышел к нему сияющий и радостный. — Слышали, — ликующе воскликнул он, идя навстречу Мартинецу, — о моём полевом суде? Будем вешать одного вашего земляка. При слове «земляк» фельдкурат бросил на генерала страдальческий взгляд. Он уже несколько раз опровергал оскорбительное предположение, будто он чех, и неоднократно объяснял, что в их моравский приход входят два села: чешское и немецкое — и что ему часто приходится одну неделю говорить проповеди для чехов, а другую — для немцев, но так как в чешском селе нет чешской школы, а только немецкая, то он должен преподавать закон божий в обоих сёлах по-немецки, и, следовательно, он никоим образом не является чехом. Однажды это убедительное доказательство послужило сидевшему за столом майору предлогом для замечания, что этот фельдкурат из Моравии, собственно говоря, просто мелочная лавочка. — Пардон, — извинился генерал, — я забыл, он не ваш земляк, это чех-перебежчик, изменник, служил у русских, будет повешен. Пока для проформы мы всё же устанавливаем его личность. Впрочем, это неважно, он будет повешен немедленно, как только по телеграфу придёт ответ. Усаживая фельдкурата рядом с собой на диван, генерал оживлённо продолжал: — У меня уж если полевой суд, то всё должно делаться быстро, как полагается в полевом суде; быстрота — это мой принцип. В начале войны я был за Львовом и добился такой быстроты, что одного молодчика мы повесили через три минуты после вынесения приговора. Впрочем, это был еврей, но одного русина мы тоже повесили через пять минут после совещания. — Генерал добродушно засмеялся. — Случайно оба не нуждались в духовном напутствии. Еврей был раввином, а русин — священником. Здесь перед нами иной случай, теперь мы будем вешать католика. Мне пришла в голову превосходная идея: дабы потом не задерживаться, духовное напутствие вы дадите ему заранее, чтобы, как я только что вам объяснил, нам не задерживаться. — Генерал позвонил и приказал денщику: — Принеси две из вчерашней батареи. Минуту спустя, наполняя бокал фельдкурата вином, он приветливо обратился к нему: — Выпейте в путь-дорогу перед духовным напутствием… В этот грозный час из-за решётки раздавалось пение сидевшего на койке Швейка: Мы солдаты-молодцы, Любят нас красавицы, У нас денег сколько хошь, Нам приём везде хорош… Ца-рара… Ein, zwei! Глава II
Духовное напутствие 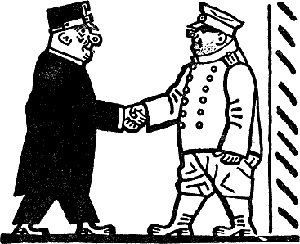
Фельдкурат Мартинец не вошёл, а буквально впорхнул к Швейку, как балерина на сцену. Жажда небесных благ и бутылка старого «Гумпольдскирхен» сделали его в эту трогательную минуту лёгким, как пёрышко. Ему казалось, что в этот серьёзный и священный момент он приближается к богу, в то время как приближался он к Швейку. За ним заперли дверь и оставили наедине со Швейком. Фельдкурат восторженно обратился к сидевшему на койке арестанту: — Возлюбленный сын мой, я фельдкурат Мартинец. Всю дорогу это обращение казалось ему наиболее соответствующим моменту и отечески-трогательным. Швейк поднялся со своего ложа, крепко пожал руку фельдкурату и представился: — Очень приятно, я Швейк, ординарец одиннадцатой маршевой роты Девяносто первого полка. Нашу часть недавно перевели в Брук-на-Лейте. Присаживайтесь, господин фельдкурат, и расскажите, за что вас посадили. Вы всё же в чине офицера, и вам полагается сидеть на офицерской гауптвахте, а вовсе не здесь. Ведь эта койка кишит вшами. Правда, иной сам не знает, где, собственно, ему положено сидеть. Бывает, в канцелярии напутают или случайно так произойдёт. Сидел я как-то, господин фельдкурат, под арестом в Будейовицах, в полковой тюрьме, и привели ко мне зауряд-кадета: эти зауряд-кадеты были вроде как фельдкураты: ни рыба ни мясо, орёт на солдат, как офицер, а случись с ним что, — запирают вместе с простыми солдатами. Были они, скажу я вам, господин фельдкурат, вроде как подзаборники: на довольствие в унтер-офицерскую кухню их не зачисляли, довольствоваться при солдатской кухне они тоже не имели права, так как были чином выше, но и офицерское питание опять же им не полагалось. Было их тогда пять человек. Сначала они только сырки жрали в солдатской кантине, ведь питание на них не получали. Потом в это дело вмешался обер-лейтенант Вурм и запретил им ходить в солдатскую кантину: это-де несовместимо с честью зауряд-кадета. Ну что им было делать: в офицерскую-то кантину их тоже не пускали. Повисли они между небом и землей и за несколько дней так настрадались, что один из них бросился в Мальшу, а другой сбежал из полка и через два месяца прислал в казармы письмо, где сообщал, что стал военным министром в Марокко. Осталось их четверо: того, который топился в Мальше, спасли. Он когда бросался, то от волнения забыл, что умеет плавать и что выдержал экзамен по плаванию с отличием. Положили его в больницу, а там опять не знали, что с ним делать, укрывать офицерским одеялом или простым; нашли такой выход: одеяла никакого не дали и завернули в мокрую простыню, так что он через полчаса попросил отпустить его обратно в казармы. Вот его-то, совсем ещё мокрого, и посадили со мной. Просидел он дня четыре и блаженствовал, так как получал питание, арестантское, правда, но всё же питание. Он почувствовал под ногами, как говорится, твёрдую почву. На пятый день за ним пришли, а через полчаса он вернулся за фуражкой, заплакал от радости и говорит мне: «Наконец-то пришло решение относительно нас. С сегодняшнего дня нас, зауряд-кадетов, будут сажать на гауптвахту с офицерами. За питание будем приплачивать в офицерскую кухню, а кормить нас будут только после того, как наедятся офицеры. Спать будем вместе с нижними чинами и кофе тоже будем получать из солдатской кухни. Табак будем получать вместе с солдатами».
|
 Вернуться к просмотру книги
Вернуться к просмотру книги
 Перейти к Оглавлению
Перейти к Оглавлению
 Перейти к Примечанию
Перейти к Примечанию
 © 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно
© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно