
|
||
|
|
||
|
|
Онлайн книга - Похождения бравого солдата Швейка | Автор книги - Ярослав Гашек
Cтраница 182

Ночью он убедился, что русская шинель теплее и больше австрийской и что нет ничего неприятного, если ночью мышь обнюхивает спящего. Швейку казалось, что кто-то нежно шепчет ему на ухо. На рассвете «шёпот» этот был прерван конвоирами, пришедшими за арестованным. Швейк до сих пор не может точно определить, что, собственно, это был за суд, куда привели его в то печальное утро. Но что это был суд военный, в этом не могло быть никаких сомнений. Там заседали генерал, полковник, майор, поручик, подпоручик, писарь и какой-то пехотинец, который, собственно говоря, ничего другого не делал, только подносил курящим спички. Допрос длился недолго. 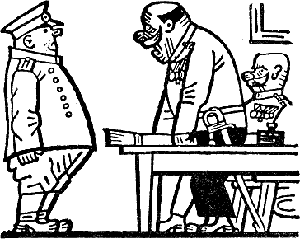
Несколько больший интерес, чем другие, проявил к Швейку майор, говоривший по-чешски. — Вы предали государя императора! — рявкнул он. — Иисус Мария! Когда? — воскликнул Швейк. — Чтобы я предал государя императора, нашего светлейшего монарха, из-за которого я столько выстрадал?! — Бросьте эти глупости, — сказал майор. — Осмелюсь доложить, господин майор, предать государя императора — не глупость. Мы народ служивый и присягали государю императору на верность, а присягу эту, как пели в театре, я, как верный муж, сдержал. — Вот, — сказал майор, — вот здесь доказательства вашей вины, и вот где правда. — Он указал на объёмистую кипу бумаг. Основной материал дал суду человек, которого подсадили к Швейку. — Вы и теперь не желаете сознаваться? — спросил майор. — Ведь вы сами подтвердили, что, находясь в рядах австрийской армии, вы добровольно переоделись в русскую форму. Спрашиваю в последний раз: принуждал вас кто-нибудь к этому? — Я сделал это без всякого принуждения. — Добровольно? — Добровольно. — Без давления? — Без давления. — А вы знаете, что вы пропали? — Знаю; в Девяносто первом полку меня, безусловно, уже ждут, но разрешите мне, господин майор, сделать небольшое примечание о том, как люди добровольно переодеваются в чужое платье. В тысяча девятьсот восьмом году, в июле, в старом рукаве реки Бероунки в Збраславе купался переплётчик Божетех с Пршичной улицы в Праге. Одежду он повесил на вербах и очень обрадовался, когда спустя некоторое время в воду влез ещё один господин. Слово за слово, баловались, брызгались, ныряли до самого вечера. Но из воды этот незнакомый господин вылез первым: пора-де ужинать. Пан Божетех остался посидеть ещё немного в воде, а когда пошёл одеваться к вербам, то вместо своей одежды нашёл босяцкие лохмотья и записку: «Я долго размышлял: брать, не брать, ведь мы так хорошо веселились, тут я сорвал ромашку, и последний оторванный лепесток вышел: брать! А посему я обменялся с вами тряпками. Не бойтесь надеть их: они очищены от вшей неделю назад в окружной тюрьме в Добржиши. В другой раз внимательнее приглядывайтесь к тому, с кем купаетесь: в воде всякий голый человек похож на депутата, даже если он убийца. Вы даже не знаете, с кем купались. Купание того стоило. К вечеру вода самая приятная. Влезьте в воду ещё разок, чтоб прийти в себя». Пану Божетеху не оставалось ничего другого, как дождаться темноты. Потом он завернулся в босяцкие лохмотья и направился в Прагу. Он старался обойти шоссе, шёл лугами, окольными тропками и встретился с жандармским патрулём из Хухли, который арестовал бродягу и на другой день утром отвёл его в районный суд в Збраслав, ведь каждый может назваться Йозефом Божетехом, переплётчиком с Пршичной улицы в Праге, дом номер шестнадцать. Секретарь, который не так уж блестяще знал чешский язык, решил, что обвиняемый сообщает адрес своего соучастника, и переспросил: — Ist das genau Prag, № 16, Josef Bozetech? [294] — Живёт ли он сейчас там, я не знаю, — ответил Швейк, — но тогда, в тысяча девятьсот восьмом году, жил. Он очень красиво переплетал книги, но долго держал, потому что сперва прочитывал их, а потом переплетал соответственно содержанию. Если он делал на книге чёрный обрез, то её не стоило читать: каждому сразу было понятно, что у романа очень плохой конец. Может, вы желаете узнать более точные подробности? Да, чтобы не забыть: он каждый день сидел «У Флеков» и рассказывал содержание всех книг, которые ему перед тем отдали в переплёт. Майор подошёл к секретарю и что-то шепнул ему на ухо. Тот зачеркнул в протоколе адрес нового мнимого заговорщика, опасного военного преступника Божетеха. Странное судебное заседание протекало под председательством генерала Финка фон Финкенштейна, приспособившего этот суд к типу полевого суда. У некоторых людей мания собирать спичечные коробки, а у этого господина была мания организовывать полевые суды, хотя в большинстве случаев это противоречило воинскому уставу. Генерал объявил, что никаких аудиторов ему не нужно, что он сам созовёт суд, а через три часа обвиняемый должен висеть. Пока генерал был на фронте, в полевых судах недостатка у него не ощущалось. Как иной во что бы то ни стало должен сыграть партию в шахматы, в бильярд или «марьяж», так этот знаменитый генерал ежедневно должен был устраивать срочные заседания полевых судов. Он председательствовал на них и с величайшей серьёзностью и радостью объявлял подсудимому мат. Сентиментальный человек написал бы, наверное, что на совести у этого генерала десятки человеческих жизней, особенно после востока, где, по его словам, он боролся с великорусской агитацией среди галицийских украинцев. Мы, однако, принимая во внимание его точку зрения, не можем сказать, чтобы у него вообще кто-нибудь был на совести. Угрызений совести он не испытывал, их для него не существовало. Приказав на основании приговора своего полевого суда повесить учителя, учительницу, православного священника или целую семью, он возвращался к себе на квартиру, как возвращается из трактира азартный игрок в «марьяж», с удовлетворением вспоминая, как ему дали «флека», как он дал «ре», а они «супре», он «тути», они «боты», как он выиграл и набрал сто семь. Он считал повешение делом совершенно простым и естественным, своего рода хлебом насущным, и, вынося приговор, довольно часто забывал про государя императора. Он не говорил «именем его императорского величества вы приговариваетесь к смертной казни через повешение», но просто объявлял: «Я приговариваю вас». Иногда он умел найти в повешении комические моменты, о чём однажды написал своей супруге в Вену: «…ты, например, не можешь себе представить, моя дорогая, как я недавно смеялся. Несколько дней назад я осудил одного учителя за шпионаж. Есть тут у меня один испытанный человек — писарь. У него большая практика по части вешания. Для него это своего рода спорт. Я находился в своей палатке, когда, по вынесении приговора, явился ко мне этот самый писарь и спрашивает: „Где прикажете повесить учителя?“ Я говорю: „На ближайшем дереве“. И вот представь себе комизм положения. Кругом степь, ничего, кроме травы, не видать, и далеко впереди нет ни единого деревца. Но приказ есть приказ, а потому взял писарь с собой учителя и конвойных, и поехали они вместе искать дерево. Вернулись только вечером, и учитель с ними. Писарь пришёл ко мне и спрашивает опять: „На чём повесить этого молодчика?“ Я его выругал и напомнил, что уже дал приказ — на ближайшем дереве. Он сказал, что утром попробует это сделать, а утром пришёл бледный как полотно: за ночь, мол, учитель исчез. Меня это так рассмешило, что я простил всех, кто его караулил. И ещё пошутил, что учитель, вероятно, сам пошёл искать дерево. Как видишь, моя дорогая, мы здесь не скучаем. Скажи маленькому Вилли, что папа его целует и скоро пришлёт ему живого русского. Вилли будет на нём ездить, как на лошадке. Ещё, моя дорогая, вспоминаю такой смешной случай. Повесили мы как-то одного еврея за шпионаж. Этот молодчик встретился нам по дороге, хотя делать ему там было нечего; он оправдывался и говорил, что продавал сигареты. Так вот, его повесили, но только на несколько секунд. Вдруг верёвка оборвалась, и он упал, но сразу опомнился и закричал мне: „Господин генерал, я иду домой! Вы меня уже повесили, а, согласно закону, я не могу быть повешен дважды за одно и то же“. Я расхохотался, и еврея мы отпустили. У нас, дорогая моя, весело!..»
|
 Вернуться к просмотру книги
Вернуться к просмотру книги
 Перейти к Оглавлению
Перейти к Оглавлению
 Перейти к Примечанию
Перейти к Примечанию
 © 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно
© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно