
|
||
|
|
||
|
|
Онлайн книга - Похождения бравого солдата Швейка | Автор книги - Ярослав Гашек
Cтраница 187

Сон фельдкурата был тревожен. Снилось ему, что днём он исполняет обязанности фельдкурата, а вечером служит швейцаром в гостинице вместо швейцара Фаустина, которого Швейк столкнул с четвёртого этажа. Со всех сторон на него сыпались жалобы генералу за то, что вместо блондинки он привёл брюнетку, а вместо разведённой, образованной дамы доставил необразованную вдову. Утром он проснулся вспотевший, как мышь. Желудок его расстроился, а в мозгу сверлила мысль, что его моравский фарар по сравнению с ним ангел. Глава III
Швейк снова в своей маршевой роте 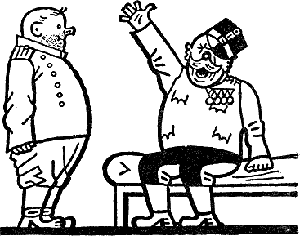
Майор, который на вчерашнем утреннем заседании суда по делу Швейка исполнял обязанности аудитора, вечером пил с фельдкуратом на брудершафт и клевал носом. Никто не знал, когда и как майор ушёл от генерала. Все напились до такого состояния, что не заметили его отсутствия. Даже сам генерал не мог разобрать, кто именно из гостей говорит. Майора не было среди них уже больше двух часов, а генерал, покручивая усы и глупо улыбаясь, кричал: — Это вы хорошо сказали, господин майор! Утром майора нигде не могли найти. Его шинель висела в передней на вешалке, сабля тоже, не хватало только офицерской фуражки. Предположили, что он заснул где-нибудь в уборной. Обыскали все уборные, но майора не обнаружили. Вместо него в третьем этаже нашли спящего поручика, тоже бывшего в гостях у генерала. Он спал, стоя на коленях, нагнувшись над унитазом. Сон напал на него во время рвоты. Майор как в воду канул. Но если бы кто-нибудь заглянул в решётчатое окошко камеры, где был заперт Швейк, то он увидел бы, что под русской шинелью спят на одной койке двое. Из-под шинели выглядывали две пары сапог: сапоги со шпорами принадлежали майору, без шпор — Швейку. Они лежали, прижавшись друг к другу, как два котёнка. Лапа Швейка покоилась под головой майора, а майор обнимал Швейка за талию, прижавшись к нему, как щенок к суке. В этом не было ничего загадочного, а со стороны майора это было просто осознанием своего служебного долга. Наверно, вам случалось сидеть с кем-нибудь всю ночь напролёт. Бывало, наверно, и так: вдруг ваш собутыльник хватается за голову, вскакивает и кричит: «Иисус Мария! В восемь часов я должен был быть на службе!» Это так называемый приступ осознания служебного долга, который наступает у человека в результате расщепления угрызений совести. Человека, охваченного этим благородным приступом, ничто не может отвратить от святого убеждения, что он должен немедленно наверстать упущенное по службе. Эти люди — те призраки без шляп, которых швейцары учреждений перехватывают в коридоре и укладывают в своей берлоге на кушетку, чтобы они проспались. Точно такой приступ был в эту ночь у майора. Когда он проснулся в кресле, ему вдруг пришло в голову, что он должен немедленно допросить Швейка. Этот приступ осознания служебного долга наступил так внезапно и майор подчинился ему с такой быстротой и решительностью, что никто не заметил его исчезновения. Зато тем сильнее ощутили присутствие майора в караульном помещении военной тюрьмы. Он влетел туда как бомба. Дежурный фельдфебель спал, сидя за столом, а вокруг него в самых разнообразных позах дремали караульные. Майор в фуражке набекрень разразился такой руганью, что солдаты как зевали, так и остались с разинутыми ртами; лица у всех перекосились. На майора с отчаянием и как бы кривляясь смотрел не отряд солдат, а стая оскалившихся обезьян. Майор стучал кулаком по столу и кричал на фельдфебеля: — Вы нерадивый мужик, я уже тысячу раз повторял вам, что ваши люди — банда вонючих свиней. — Обращаясь к остолбеневшим солдатам, он орал: — Солдаты! Из ваших глаз прёт глупость, даже когда вы спите! А проснувшись, вы, мужичьё, корчите такие рожи, словно каждый из вас сожрал по вагону динамита. После этого последовала длинная и обильная проповедь об обязанностях караульных и под конец требование немедленно отпереть ему камеру, где находится Швейк; он хочет подвергнуть преступника новому допросу. Вот каким образом майор ночью попал к Швейку. Он пришёл в тюрьму, когда в нём, как говорится, всё расползалось. Последним взрывом был приказ выдать ключи от тюрьмы. Фельдфебель пришёл в отчаяние от требований майора, но, помня о своих обязанностях, ключи выдать отказался, что неожиданно произвело на майора прекраснейшее впечатление. — Вы банда вонючих свиней! — кричал он во дворе. — Если бы вы мне выдали ключи, я бы вам показал! — Осмелюсь доложить, — ответил фельдфебель, — я вынужден запереть вас и для вашей безопасности приставить к арестанту караульного. Если вы пожелаете выйти, то будьте любезны, господин майор, постучать в дверь. — Ты дурной, — сказал майор, — павиан ты, верблюд! Ты думаешь, что я боюсь какого-то там арестанта, раз собираешься поставить караульного, когда я буду его допрашивать? Чёрт вас побери! Заприте меня — и вон отсюда! Керосиновая лампа с прикрученным фитилём, сшившая в окошечке над дверью в решётчатом фонаре, давала тусклый свет, и майор с трудом отыскал проснувшегося Швейка. Последний, стоя навытяжку у своих нар, терпеливо выжидал, чем, собственно говоря, окончится этот визит. Швейк решил, что самым правильным будет представиться господину майору, и поэтому энергично отрапортовал: — Осмелюсь доложить, господин майор, арестованный один, других происшествий не было. Майор вдруг забыл, зачем он пришёл сюда, и поэтому сказал: — Ruht! Где у тебя этот арестованный? — Это, осмелюсь доложить, я сам, — с гордостью ответил Швейк. Майор, однако, не обратил внимания на этот ответ, ибо генеральское вино и ликёры вызвали в его мозгу последнюю алкогольную реакцию. Он зевнул так страшно, что любой штатский вывихнул бы себе при этом челюсть. У майора же этот зевок направил мышление по тем мозговым извилинам, где у человека хранится дар пения. Он непринуждённо повалился на тюфяк, лежавший на нарах у Швейка, и завопил так, как перед своим концом визжит недорезанный поросёнок: Oh, Tannenbaum! Oh, Tannenbaum, wie schön sind deine Blätter! [296] Он повторял эту фразу несколько раз подряд, обогащая мелодию нечленораздельными повизгиваниями. Потом перевалился, как медвежонок, на спину, свернулся клубочком и тут же захрапел.
|
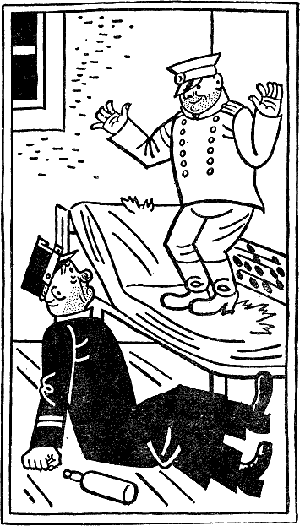
 Вернуться к просмотру книги
Вернуться к просмотру книги
 Перейти к Оглавлению
Перейти к Оглавлению
 Перейти к Примечанию
Перейти к Примечанию
 © 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно
© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно