
|
||
|
|
||
|
|
Онлайн книга - Двойные мосты Венисаны | Автор книги - Линор Горалик
Cтраница 6

Агата будет сидеть среди всех – одна. 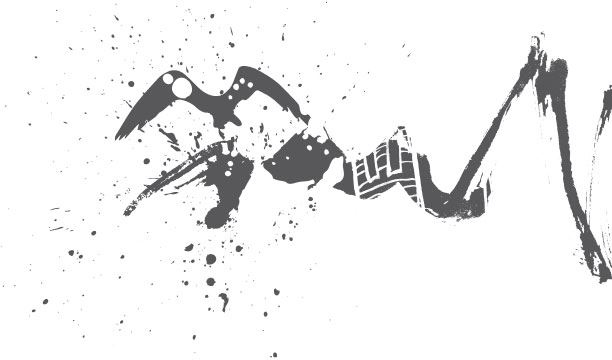
Даже лалино у нее нету; наверное, если бы Агата заговорила, если бы она сказала сестре Юлалии: «Я готова быть лало – дайте мне лалино!» – сестры и братья вверили бы ей кого-нибудь, кто и без ее заботы бы не пропал, но сейчас, наверное, все считают, что даже такая нагрузка Агате не по силам, – и то хорошо, что эта ни на что не годная Агата может таскать на себе рюкзак. «Я тень человека, – думает Агата, – тень человека». Она думает о братьях и сестрах ордена, спасающих раненых в боях под водой и на узких, раскаленных улочках, добивающихся для них пропусков, которые, говорят, с каждым днем все труднее получить. Агата представляет себе, как монахи и монахини перетаскивают раненых по бесконечной лестнице на носилках из жара в холод, с первого этажа на второй; она думает о беременной сестре Женнифер, главном хирурге, которая, несмотря на свой растущий живот, уже отдает указания в операционной, когда Агата только бредет завтракать, и все еще делает свою кровавую и бесстрашную работу, когда Агатина команда, надев шубки, отправляется в палисадник помолиться и принести дары перед сном. Агата думает и о Норре и Адаме, строгой и молчаливой паре из старшей команды, которая помогает в операционной и наверняка примет постриг в орден, когда после войны закончит колледжию и поженится… На секунду Агата чувствует прилив сил и говорит себе: «Я могу вот это. Могу, могу, могу». Раньше Агата иногда шла с закрытыми глазами: она представляла себе, что летит на спине Гефеста от дома к дому, от окна к окну, и люди изумленно протягивают к ней руки, и она говорит: «Именем святой Агаты», – и ей отвечают: «Милостью ее». Но теперь Агата запретила себе думать про такое – навсегда: габо больше нет, они улетели, они ненавидят нас, запомни это, запомни, говорит себе Агата, и если вдруг вспоминает о Гефесте, то щипает себя за запястье, и это помогает. Они идут, нарушая своими шагами плавный танец густой поземки, гуляющей над полированными поблескивающими плитами Конюшенного проспекта: впереди самый ненавистный Агате кусок обратного пути, и если бы Агата могла, она бы вцепилась сейчас в ладонь Мелиссы и прошла мимо Худых ворот с закрытыми глазами – но она этого, конечно, не сделает. Может быть, в этот день Агате повезет и у запертых Худых ворот не будет никого, кроме стоящих треугольником девяти солдат в полном вооружении, глядящих в пустоту ночного проспекта, – но так бывает очень редко: днем и ночью к Худым воротам – зеленым от старости, высоченным, выше стоящих рядом одноэтажных особняков, и таким узким, что в них может пройти только очень тощий человек, – тянется цепочка оборванных, грязных, израненных людей, подталкиваемых в спину солдатскими штыками. Когда Агата увидела этих людей в первый раз, она решила, что ворота – это тоже вход в госпиталь, а эти люди тяжело больны, – непонятно только было, почему солдаты обращаются с ними так грубо, – и лишь когда Харманн презрительно, сквозь зубы сказал: – Мерзкие дезертиры, я бы их не в Венисальт высылал, а своими руками душил! – Агата вспомнила все, что знала об обшитых бронзой воротах, которые сделали таким узкими, чтобы никакие взбунтовавшиеся преступники не могли прорваться сквозь них обратно в Венискайл, и сквозь которые сосланный человек проходил только один раз в жизни. Каждый раз, когда Агата, Мелисса, Ульрика и Харманн проходят мимо этой цепочки несчастных людей, которых у Агаты, как она себя ни убеждает, не получается ненавидеть, ресницы Мелиссы начинают дрожать, и Агате хочется стукнуть дурака Харманна, отлично знающего, что родителей Мелиссы задолго до войны сослали в Венисальт за неуплату долгов, а еще – прийти когда-нибудь к брату Турманну и спросить, зачем он всегда рисует карту так, чтобы они шли обратно мимо Худых ворот, если наверняка идущие крест-накрест проспекты второго этажа могут привести их домой сотней других способов. Агата не сомневается, что у брата Турманна найдется очень веский ответ и что ответ этот напрямую связан с Мелиссой, вот только в то, что надменный брат Турманн согласится отчитываться перед Агатой, поверить непросто. Агата глубоко вдыхает колкий морозный воздух и, вместо того чтобы зажмуриваться, вглядывается в темноту, стараясь угадать, повезло ей в этот раз или нет. 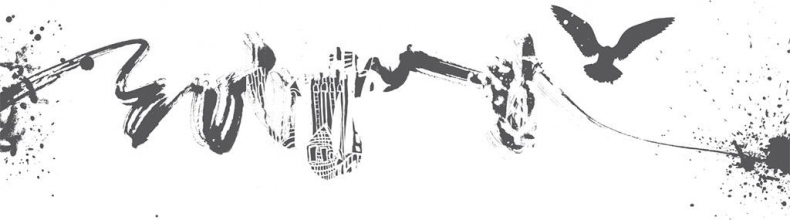
Увы, этот вечер – плохой вечер: чем ближе Агатина Четверка подходит к Худым воротам, тем яснее, что ворота открыты и к ним тянется цепочка дрожащих мужчин и женщин, подталкиваемых солдатами. Вот они уже совсем рядом; вот они уже почти слева от Агаты; вот Агата все-таки закрывает глаза и начинает считать шаги – пятьдесят шагов и все это будет позади, держись, Агата, держись, Агата, держись, Агата, – и вдруг происходит что-то очень странное и неожиданно приятное: горящие уши Агаты и ее чешущуюся под шапкой голову овевает ледяной ветер. Это так странно, что Агата даже не сразу хватается за голову: она несколько раз озирается, пытаясь понять, что произошло, и тут вежливая, воспитанная, никогда даже не смеющаяся с открытым ртом Ульрика вопит во весь голос: – Отдай! Отдай, скотина! Отдай, подонок!.. Агата вдруг видит белое-белое пятно, реющее в темном воздухе прямо перед воротами в Венисальт: ее шапка, белоснежная шапка из перьев габо теперь натянута до самых ушей на голову какого-то изможденного человека в разорванной военной форме, с разбитыми в кровь губами; он не смотрит на Агату, он изо всех сил прячет глаза и крошечными шажками продвигается вперед, зажатый между двумя другими осужденными. Агата вдруг думает о том, что он и сам еще недавно мог осудить кого-то на вечную высылку в Венисальт: если ловили человека, подозреваемого в дезертирстве, его должны были судить первые попавшиеся солдат, монах и прохожий и за тринадцать минут решить, какой судьбы он заслуживает; может, и этот измученный человек с запавшими глазами был в такой тройке, – а теперь Ульрика висит у него на рукаве и визжит, переполненная ненавистью, которой Агата в ней и не подозревала, и очень понятно, что движет Ульрикой вовсе не страх за Агатины мерзнущие уши. Голова Ульрики запрокинута, спина выгнута, и она похожа на ундину в зеленой палате, куда Агата однажды случайно заглянула в поисках брата Мартина, который должен был выдать ей шпагат для подвязывания стеблей: к гладкой блестящей голове этой ундины были приклеены маленькие присоски с проводами, что-то трещало, спина ее была выгнута в страшном напряжении, зубные пластинки вибрировали, жабры трепетали, глаза вылезли из орбит, а сестра Алина, держа в ладонях длиннопалую перепончатую ладонь ундины, сведенную судорогой, говорила сестре Аделаиде, стоявшей у зеленого аппарата с длинными рычагами: «Пусть бы ей, бедняжке, помогло, уж очень она мается по ночам». Она и правда страшно кричала по ночам, эта ундина, хотя однажды, когда ундину еще не перевели в отдельную комнату в самом конце Третьего луча, чтобы она не будила других больных, Агате, лежавшей без сна, показалось, что ундина не кричит, а поет, только песня эта очень непривычная; но слышать, как вопит нежная воспитанная Ульрика, было еще в сто раз непривычнее – и гораздо страшнее. |
 Вернуться к просмотру книги
Вернуться к просмотру книги
 Перейти к Оглавлению
Перейти к Оглавлению
 © 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно
© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно