
|
||
|
|
||
|
|
Онлайн книга - Полная иллюминация | Автор книги - Джонатан Сафран Фоер
Cтраница 49

Поскольку дедушке было только десять, в его способности заниматься любовью (или служить предметом для занятий любовью) по несколько часов кряду не было ничего необычного. Но, как он обнаружит позднее, такая редкая коитальная выносливость была следствием не предполовой зрелости, а еще одного физического изъяна, развившегося в результате недоедания: как повозка без тормозов, он никогда не останавливался на полпути. Эта странность дедушки доставила немало истинно счастливых минут всем 132 его любовницам, но сам он относился к ней с безразличием: в самом деле, как можно тосковать по тому, чего никогда не знал? К тому же он никогда не любил ни одну из своих любовниц. Он понимал, что чувство, которое к ним испытывает, не было любовью. (Только одна среди них что-то для него значила, но травма, полученная при родах, сделала их физическую близость невозможной.) Что же ему оставалось? Его первая связь, продолжавшаяся каждое воскресенье на протяжении четырех лет (покуда вдова не осознала, что тридцать с лишним лет назад учила играть на пианино его мать, и не нашла в себе сил показать ему очередное письмо), была отнюдь не любовной. Дедушка был всего лишь сострадательным пассажиром. Свою руку (единственный орган, к которому она проявляла интерес; сам акт был для нее не более чем средством сближения с его рукой) он с радостью вручал Розе как еженедельный подарок, вместе с ней притворяясь, что соитие происходит не под балдахином постели, а внутри маяка на далеком ветреном мысу, и что их силуэты, засылаемые лучом мощного прожектора в черную даль моря, станут добрым знамением морякам и вернут ей мужа. Он не возражал, чтобы его мертвая рука исполняла функцию иного, отсутствующего органа, по которому вдова так мучительно тосковала, ради которого перечитывала пожелтевшие письма и жила на выселках от себя, за границей собственной жизни. Ради которого занималась любовью с десятилетним мальчиком. Рука была всего лишь рукой, но именно о ней, а не о муже и даже не о себе подумала Роза семь лет спустя, 18 июня 1941 года, когда первые немецкие залпы до основания сотрясли ее бревенчатую хибарку, а глаза закатились вглубь головы, чтобы перед смертью увидеть внутренности. Густой замес из крови и драмы,1934
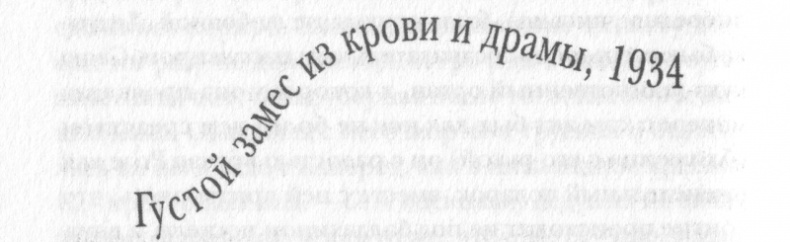
НЕ ПОДОЗРЕВАЯ об истинной сути его визитов, прихожане Падшей Синагоги оплачивали дедушке еженедельные посещения Розы, а со временем решили платить ему за оказание подобных услуг и другим вдовам и хиреющим дамам вблизи Трахимброда. Его родители тоже ни о чем не догадывались, но облегченно вздыхали, видя, с каким рвением их сын совмещает заработок с уходом за пожилыми, что становилось для них все более личной проблемой по мере того, как они сами нисходили в бедность и раннюю старость. Мы уж подумывали, нет ли в тебе цыганской крови, — сказал ему отец, но он только улыбнулся в ответ — как всегда на отцовские замечания. Он хочет сказать, — сказала мама (мама, которую он обожал больше жизни), — что мы радуемся, когда ты с пользой проводишь время. Она поцеловала его в щеку и взъерошила волосы, чем огорчила отца, который считал, что Сафран давно вырос из этих нежностей. Кто мое сокровище? — бывало, спрашивала она, когда отца не было рядом. Я, — говорил Сафран, млея от вопроса, млея от ответа, млея от поцелуя, который всегда ответ сопровождал. — Тебе за ним далеко ходить не надо. Будто он и вправду боялся, что однажды она за ним куда-нибудь пойдет. И по этой причине — потому что он не хотел, чтобы она куда-либо от него уходила, — он никогда не говорил маме того, что, по его мнению, могло ее расстроить, или уронило бы его в ее глазах, или пробудило бы в ней ревность. Из тех же соображений он никогда не рассказывал друзьям о своих любовных похождениях, а очередной любовнице о ее предшественнице. Он так боялся разоблачения, что даже в своем дневнике — единственном дошедшем до меня письменном свидетельстве его жизни до встречи с бабушкой, после войны, в лагере для перемещенных лиц, — он ни разу о них не упоминает. В день, когда Роза лишила его невинности: Самый обычный день. Отец получил свежую партию бечевки из Ровно и наорал на меня, когда я отказался ему помочь. Мама, как обычно, вступилась, но он все равно наорал. Всю ночь думал о маяках. Странно. В день, когда впервые лишил невинности он: Ходил сегодня в театр. В первом акте от скуки чуть не уснул. Выпил восемь чашечек кофе. Думал, разорвет. Не разорвало. В день, когда впервые он вошел в женщину со спины: Долго раздумывал над мамиными словами о часовщиках. Доводы ее убедительны, но я все еще сомневаюсь. Слышал, как они с отцом орут друг на друга в спальне, из-за крика не мог заснуть. Зато когда заснул, спал как убитый. Не то чтобы его мучил стыд или угнетала мысль о неправильности его поступков, — он знал, что поступает правильно, правильнее, чем все, кто его окружает, — и еще он знал, что правильные поступки всегда сопровождаются чувством вины и что если чувствуешь себя виноватым, значит, скорее всего, поступаешь правильно. Но он также знал, что любовь не застрахована от инфляции, и что если мама, или Роз, или кто-либо из тех, кто его любит, друг о друге узнают, они волей-неволей почувствуют себя обесцененными. Он знал, что слова я люблю тебя означают также я люблю тебя сильнее всех, кто когда-либо тебя любил или полюбит, а также я люблю тебя так, как никогда никого до этого не любил и не полюблю. Он знал, что любить одновременно двоих невозможно по определению. (Алекс, отчасти в этом причина, по которой я не могу рассказать бабушке об Августине.) Вторая тоже была вдовой. Ему все еще было десять, когда одноклассник пригласил его на спектакль в местный театр, который одновременно служил танцплощадкой, а дважды в год — синагогой. Его билет соответствовал креслу, которое уже успела занять Листа П, юная вдова первой жертвы Сдвоенного Дома. Она была миниатюрной, с кудряшками тонких каштановых волос, собранных в тугой хвостик. Ее розовая юбка поражала своей опрятностью и чистотой — такой опрятностью и такой чистотой, будто она отстирывала и отглаживала ее десятки раз. Она была красива, это точно, красива своей пронзительной аккуратностью, очевидной даже в мелочах. И если предположить, что ее муж оставался бессмертным до той поры, покуда энергия его клеток растворялась в земле, питала и удобряла почву, помогая новой жизни расти, то продолжалась и ее любовь, рассеянная по тысячам ежедневных дел, которые надлежало сделать, — любовь до того грандиозная, что даже многократно поделенной ее хватало на то, чтобы пришивать пуговицы к рубашкам, которые некому было надеть, и собирать опавшие ветки у подножий деревьев, и по десять раз стирать и гладить юбки, не успевшие толком запачкаться. По-моему… — начал он, показывая свой билет. Но посмотри, — сказала Листа, показывая свой, где черным по белому значилось то же место. — Оно мое. И мое. Она принялась бормотать что-то об абсурдности театра, посредственности актеров, недалекости драматургов, идиотизма драмы как таковой и как ее совсем не удивляет, что эти остолопы не смогли справиться даже с тем, чтобы продать не больше, чем по одному билету на место. Тут она заметила его руку — и тирада оборвалась.
|
 Вернуться к просмотру книги
Вернуться к просмотру книги
 Перейти к Оглавлению
Перейти к Оглавлению
 Перейти к Примечанию
Перейти к Примечанию
 © 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно
© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно