
|
||
|
|
||
|
|
Онлайн книга - Лагуна. Как Аристотель придумал науку | Автор книги - Арман Мари Леруа
Cтраница 76

Через пропасть между растениями и животными мост перебросили не одни только губки. Аристотелевские tēthya (асцидии), knidai и akalēphai (актинии), holothourion и pneumōn (описания довольно скупы, так что это могут быть и голотурии, и медузы), pinna (род морских двустворчатых моллюсков) – все они страдают своего рода раздвоением сущности, куда более радикальным, чем дельфин (млекопитающее, выбравшее море), страус (нелетающая птица), летучая мышь (летающее млекопитающее). Не менее неоднозначные создания населяют море и вдали от берега. Теофраст рассказывает о растущих в глубине каменистых алых созданиях и называет их korallion. Речь идет о красном коралле (Corallium rubrum). Теофраст описывает его в книге о камнях, вместе с жемчугом, лазуритом и красной яшмой. Так что же, коралл – это минерал? Возможно, нет, тем более что Теофраст называет его разновидностью растения из морских глубин, растущего близ Гибралтарского пролива и напоминающего осот. Упоминаются им и древоподобные наросты высотой в три локтя (135 см) в Заливе героев. Когда их извлекают из воды, пишет Теофраст, они напоминают камни, а при погружении в воду вновь оказываются яркими. Теофраст слышал об удивительных коралловых рифах, которые тянутся на 2 тыс. км от Акабы до входа в Красное море. 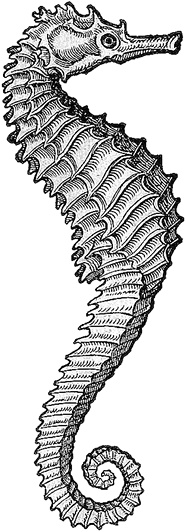
Hippokampos Аристотеля – морской конек (Hippocampus sp.) У животных есть три черты, которых нет у растений: восприятие, аппетит и способность к перемещению. Все аристотелевские организмы, сочетающие признаки животных и растений, лишены хотя бы одной из указанных черт. Асцидии неподвижны, однако отвечают на прикосновение. Актинии неподвижны, но могут отделяться от поверхности, к которой прикреплены, и хватать добычу. Holothourion и pneumōn могут свободно двигаться или, по меньшей мере, дрейфовать, однако лишены восприятия. Мидии, отнесенные Аристотелем к “ракушкокожим” и поэтому близкие к улиткам и устрицам, “укоренены” (под “корнями” понимается биссус). Итак, поскольку эти существа имеют по крайней мере одну способность, ассоциируемую с чувствующей душой, Аристотель, возможно, предполагал, что они животные, но никогда не говорил об этом. Дело в том, что решение таксономической проблемы интересовало его в меньшей степени, чем то, почему это вообще стало проблемой: Природа переходит так постепенно от предметов бездушных к животным, что в этой непрерывности остаются незаметными и границы, и чему принадлежит промежуточное. Ибо после рода предметов бездушных первым следует род растений, и из них одно от другого отличается тем, что кажется более причастным к жизни, и в целом весь род растений по сравнению с другими телами кажется почти одушевленным, а по сравнению с родом животных бездушным. Живое и неживое, растения и животные формируют единое пространство, в котором одно плавно переходит в другое. На одном полюсе в этой схеме помещаются неодушевленные, почти бесформенные предметы, например камни, на другом – животные с двух- или даже трехчастной душой. По мере перехода от неживого к живому характерные признаки каждой группы проявляются постепенно. Но факт остается фактом: в море трудно провести границы. 88 “Природа переходит постепенно”, или (на латыни) Natura non facit saltum – “природа не делает прыжков”. Это один из лозунгов Дарвина. В одном лишь “Происхождении видов” он звучит семь раз. Хаксли (Гексли) считал, что это ненужная слабость дарвиновской теории [177]. Этот мотив встречается и у Аристотеля. Он прямо говорит это, рассуждая о похожих на растения губках или о животных, кости которых иногда похожи на рыбьи. Менее явно этот мотив возникает, когда он говорит о змеях как о ящерицах с удлиненным телом (они действительно родственны друг другу) или о том, что тюлени – это “деформированные” наземные четвероногие, а обезьяны весьма напоминают человека. При чтении Аристотеля невозможно не вспомнить о Дарвине. Аристотель конструирует иерархическую классификацию и использует слово genos для своих таксономических категорий. По всей видимости, это подразумевает единство видов по происхождению – ибо что есть семья, как не группа генеалогически родственных сущностей? Он различает аналогичные и гомологичные части. Какой смысл могут иметь эти понятия, если не эволюционный? Сходный характер имеет и его описание эмбрионов – он отмечает, что на начальных стадиях развития они похожи и лишь позднее начинают различаться. Наряду с “первым законом” эмбриологии фон Бэра, это одно из важнейших дарвиновских доказательств эволюции. Кроме того, и у Аристотеля, и у Дарвина встречается множество объяснений того, как устроены органы того или иного животного, чтобы взаимодействовать друг с другом или со средой. Многие философы и ученые пытались отграничить аристотелевскую телеологию от дарвиновского адаптационизма. (Появился даже обтекаемый термин телеономия, позволяющий использовать телеологию без того, чтобы слишком откровенно подражать Аристотелю.) Эта игра слов затемняла сходные признаки. Функционализм Аристотеля столь же непоколебим, как и Дарвина и большинства эволюционных биологов. Действительно, читая Стагирита, трудно отделаться от ощущения, что он движется в сторону теории эволюции или даже пришел к чему-либо подобному. Однако это не так. Он не заявляет, как Дарвин, что все живое происходит от одного предка. Нигде он не предполагает, что одно животное может трансформироваться в другое. Нигде не поет он погребальную песнь тому или иному вымершему виду. У слова genos несколько смыслов, но у Аристотеля нет ни намека на его использование в генеалогическом смысле. Когда он пишет, что “природа переходит постепенно”, он имеет в виду не развитие, а неподвижную картину мира – что каждый может насчитать множество переходных ступеней между существующими на данный момент формами. А Дарвин имеет в виду то же самое, но уже в плане динамики – что виды могут изменяться, но крайне медленно. Нигде Аристотель не обращается к чему-либо, напоминающему естественный отбор, как к силе, ответственной в живой природе за ставшее или становящееся. При этом у него было все необходимое для такого шага. Естественный отбор – вот единственное рациональное объяснение адаптации, то есть приспособления к окружающей среде. Аристотелю известно об адаптациях, а также о том, что адаптации нуждаются в объяснении. В плане научного объяснения естественный отбор – сама простота. Чтобы к нему прийти, нужно принять всего три концепции: 1) живые существа изменчивы, 2) по крайней мере некоторая часть этой изменчивости наследуется, 3) некоторые из “носителей” унаследованных вариантов выживают и размножаются благодаря особенностям их фенотипов, а остальные – нет. Теория квазистабильного наследования дает Аристотелю первые две концепции. Селекционизм Эмпедокла должен был показать ему третью. Похоже, Аристотелю не хватило лишь вдохновения или, возможно, желания сложить воедино фрагменты мозаики.
|
 Вернуться к просмотру книги
Вернуться к просмотру книги
 Перейти к Оглавлению
Перейти к Оглавлению
 Перейти к Примечанию
Перейти к Примечанию
 © 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно
© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно