
|
||
|
|
||
|
|
Онлайн книга - Путь русского офицера | Автор книги - Антон Деникин
Cтраница 105

Комиссары Савинков и Филоненко телеграфировали Временному правительству: «Выбора не дано: смертная казнь изменникам… смертная казнь тем, кто отказывается жертвовать жизнью за Родину»… В начале июля, когда обозначился неуспех русского наступления, в Главной квартире Гинденбурга решено было предпринять новую большую операцию против Румынского фронта одновременным наступлением 3-й и 7-й австрийских армий, через Буковину в Молдавию, и правой группы Макензена на нижнем Серете. Целью ставилось овладение Молдавией и Бессарабией. Но еще 11 июля 4-я русская армия генерала Рагозы и румынская Авереско перешли в наступление между реками Сушицей и Путной против 9-й австрийской армии. Атака их увенчалась успехом; армии овладели укрепленными позициями противника, продвинулись на несколько верст, взяли 2000 пленных и более 60 орудий, но развития операция эта не получила. По условиям театра и направления, эти действия имели скорее характер демонстрации, для облегчения положения Юго-Западного фронта и, кроме того, войска 4-й русской армии вскоре утратили наступательный порыв. В течение июля и до 4 августа войска эрцгерцога Иосифа и Макензена вели атаки в направлении Радауцком, Кимполунгском, Окненском и севернее Фокшан, имели местные успехи, но никаких серьезных результатов не достигли. Хотя русские дивизии неоднократно отказывали в повиновении и иногда бросали позиции во время боя, но все же несколько лучшее общее состояние Румынского фронта – периферии по отношению к Петрограду, наличие более прочных румынских войск и естественные условия театра позволили удержать фронт. Это обстоятельство, в связи с выяснившейся неустойчивостью австрийских армий, в особенности 3-й и 7-й [142], и полным расстройством сообщений группы Бем-Эрмоли и левого крыла эрцгерцога Иосифа, заставили Главную квартиру Гинденбурга отложить на неопределенное время операцию, и на всем протяжении Юго-Западного фронта наступило затишье; на Румынском же до конца августа шли бои местного значения. Вместе с тем началась переброска германских дивизий от Збруча на север, на Рижское направление. Гинденбург имел целью, не напрягая чрезмерно сил и не расходуя больших резервов, столь нужных на Западноевропейском фронте, наносить нам частные удары, и тем давать моральные толчки, к ускорению естественного падения русского фронта, на чем основывались все оперативные расчеты, и даже сама возможность продолжения центральными державами кампании в 1918 году. […] * * * Еще 11 июля генерал Корнилов, после назначения главнокомандующим Юго-Западного фронта, послал Временному правительству, с копией верховному командованию, известную свою телеграмму («Армия обезумевших темных людей бежит…»), требуя введения смертной казни; в телеграмме он, между прочим, писал: «Я заявляю, что отечество гибнет, а потому, хотя и неспрошенный, требую немедленного прекращения наступления на всех фронтах, для сохранения и спасения армии, и для ее реорганизации на началах строгой дисциплины, дабы не жертвовать жизнью немногих героев, имеющих право видеть лучшие дни». Невзирая на своеобразную форму этого обращения, идея прекращения наступления была немедленно принята верховным командованием, тем более что фактическая приостановка всех операций явилась, независимо от директив, как результат нежелания драться и утраченной способности русской армии к наступательным действиям, так одновременно и вследствие планов германской Главной квартиры. Смертная казнь и военно-революционные суды были введены на фронте. Корнилов отдал приказ расстреливать дезертиров и грабителей, выставляя трупы расстрелянных с соответствующими надписями на дорогах и видных местах; сформировал особые ударные батальоны, из юнкеров и добровольцев, для борьбы с дезертирством, грабежами и насилиями; наконец, запретил в районе фронта митинги, требуя разгона их силою оружия. Эти мероприятия, введенные генералом Корниловым самочинно, его мужественное прямое слово, твердый язык, которым он, в нарушение дисциплины, стал говорить с правительством, а больше всего решительные действия – все это чрезвычайно подняло его авторитет в глазах широких кругов либеральной демократии и офицерства; даже революционная демократия армии, оглушенная и подавленная трагическим оборотом событий, в первое время после разгрома увидела в Корнилове последнее средство, единственный выход из создавшегося отчаянного положения. Можно сказать, что день 8 июля [143] предрешил судьбу Корнилова: в глазах многих он стал народным героем, на него возлагались большие надежды, от него стали ждать спасения страны. Находясь в Минске, – и имея очень плохое осведомление о неофициальных взаимоотношениях военного мира, – я все же ясно почувствовал, что центр тяжести морального влияния переносится в Бердичев [144]; Керенский и Брусилов как-то сразу потускнели. В служебном обиходе появился новый, странный способ руководительства: из Бердичева получалось в копии «требование» или уведомление о принятом сильном и ярком решении, а через некоторое время оно повторялось Петроградом или Могилевым, облеченное в форму закона или приказа… На солдат июльская трагедия произвела, несомненно, несколько отрезвляющее впечатление. Во-первых, появился стыд – слишком гнусно и позорно было все случившееся, чтобы его могла оправдать даже заснувшая совесть и сильно притупленное нравственное чувство. Я помню, как впоследствии, в ноябре, мне пришлось под чужим именем, переодетым в штатское платье, в качестве бежавшего из Быховского плена, несколько дней провести в солдатской толпе, затопившей все железные дороги. Шли разговоры, воспоминания. И я не слышал ни разу циничного, откровенного признания солдатами их участия в июльском предательстве; все находили какие-либо оправдания событиям, главным образом, в чьей-либо «измене», преимущественно… офицерской; о своей – никто не говорил. Во-вторых, появился страх. Солдаты почувствовали какую-то власть, какой-то авторитет, и поэтому несколько присмирели, заняв выжидательное положение. Наконец, прекращение серьезных боевых операций и вечно нервного напряжения вызвало временно реакцию, проявившуюся в некоторой апатии и непротивлении. Это был второй момент в жизни армии (первый – в начале марта), который, будучи немедленно и надлежаще использован, мог стать поворотным пунктом в истории русской революции. […] Но по мере того, как замирали последние выстрелы на фронте наступления, люди, ошеломленные грозными событиями, начали мало-помалу приходить в себя. Первым опомнился Керенский. Не было уже того ужаса, бьющего по нервам, заставлявшего терять голову, под влиянием которого изданы были первые суровые приказы. Страх перед Советом, опасение потерять окончательно авторитет среди революционной демократии, обида за резкий, оскорбительный тон корниловских обращений и призрак грядущего диктатора тяготели над волей Керенского. Военные законопроекты, которые должны были вернуть власть вождям и силу армии, безнадежно тонули в канцелярской волоките, в пучине личных столкновений, подозрений и антипатий.
|
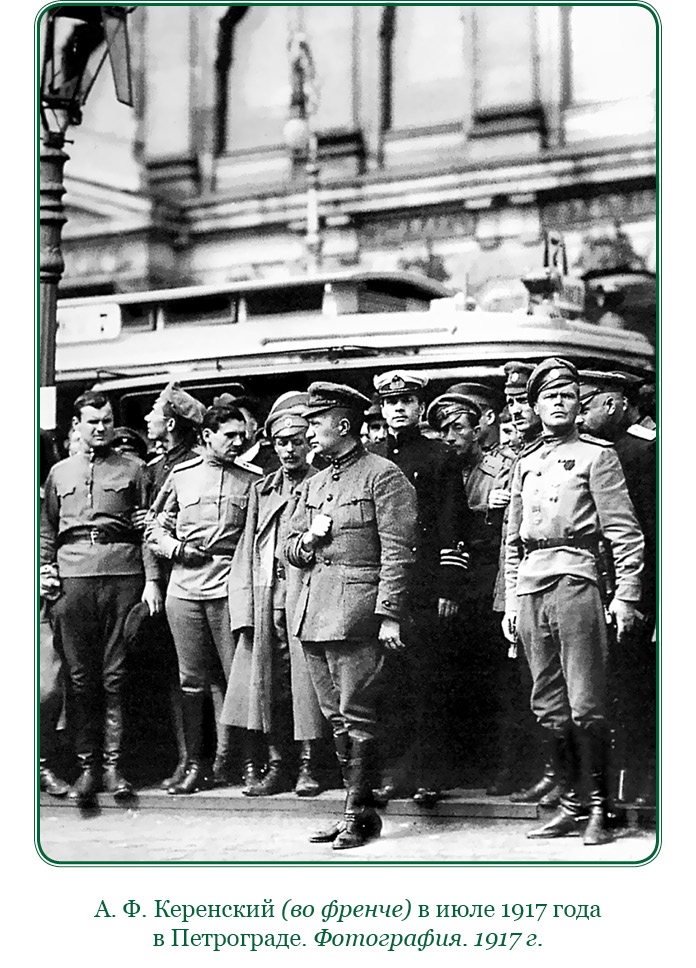
 Вернуться к просмотру книги
Вернуться к просмотру книги
 Перейти к Оглавлению
Перейти к Оглавлению
 Перейти к Примечанию
Перейти к Примечанию
 © 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно
© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно