
|
||
|
|
||
|
|
Онлайн книга - Мои воспоминания. Брусиловский прорыв | Автор книги - Алексей Брусилов
Cтраница 112

Чутье сердечное у женщин поразительное; жена моя и сестра ее со слезами умоляли меня не верить ни одному слову их, не попасться опять в ловушку. Склянский мне рассказал, что в штабе и даже в войсках Врангеля происходит настоящее брожение. Что многие войска не хотят сражаться с красными, ни тем более бежать за границу, что их заставляют силою драться и покидать родную землю, что состав офицеров определенно настроен против распоряжений высшего начальства. Он задал мне вопрос: соглашусь ли я принять командование врангелевской армией, если она останется в России без высшего начальства? Я отвечал ему, что очень мало склонен теперь принимать какую-либо армию, что стар и болен. Но, что, если это будет необходимо, я приду на помощь русским офицерам, солдатам и казакам, постараюсь быть для них руководителем и согласовать их действия с планами Советской республики. Конечно, опять-таки всякий поймет, что я так отвечал на основании моих мыслей, чувств и надежд, о которых я писал на предыдущей странице. Склянский мне говорил, что предлагает мне, чтобы на случай полного бунта в войсках армии Врангеля было заранее у меня готово мое воззвание о том, что я принимаю командование ею, а пока до того, что окончательные сведения об этом ими получатся, когда мне придется спешно выехать на юг, чтобы я составил свой якобы штаб и указал, кого я беру с собой… И вот, должен признаться к великому своему горю, что они меня подло обошли. Я воодушевился, поверив этому негодяю. Я думал: армия Врангеля в моих руках, плюс все те, кто предан мне внутри страны и в рядах Красной армии. Конечно, я поеду на юг с пентаграммой [155], а вернусь с крестом и свалю этих захватчиков или безумцев, в лучшем случае. Я пригласил в этот же вечер нескольких людей, которым вполне верил, но с которыми очень редко виделся, чтобы распределить роли. Мы все обдумали. Не называю лиц, так как они все семейные и все там, в плену, в Москве. Я пишу эту последнюю часть моих записок вне досягаемости чекистов и завещаю их напечатать после моей смерти или переворота в России, но все же подводить под какую-либо случайность их не имею права. Они сами себя назовут, если захотят, и когда для них будет возможно. Итак, мы все обдумали, распределили должности… И ждали, день – другой – третий. Склянский ничего не давал знать. А гораздо позднее он сообщил мне, при случае, что сведения были неверные, бунта никакого не было и что все таким образом распалось. А еще гораздо позднее друзья, приезжавшие из Крыма, рассказывали нам, что когда после последней вспышки у Перекопа красные его взяли и пошли дальше на Крым, когда началось поголовное бегство, белые спасались на пароходы, чтобы не попасть в руки озверелых коммунистов, то там распространялось воззвание, подписанное моим именем, которое в действительности я никогда не подписывал, что воззвания расклеивали на всех стенах и заборах и многие офицеры верили им, оставались на берегу и попадали в руки не мои, а свирепствовавшего Белы Куна (еврей Коган), массами их расстреливавшего. Суди меня Бог и Россия. Право, не знаю, могу ли я обвинять себя в этом ужасе, если это так было в действительности? Я до сих пор не знаю, было ли это именно так, как рассказывали мне, и в какой мере это была правда? Знаю только, что в первый раз в жизни столкнулся с такой изуверской подлостью и хитростью и попал в невыносимо тяжелое положение, такое тяжелое, что, право, всем тем, кто был попросту расстрелян, – несравненно было легче. Если бы я не был глубоко верующим человеком, я мог бы покончить самоубийством. Но вера моя в то, что человек обязан нести все последствия вольных и невольных грехов, не допустила меня до этого. В поднявшейся революционной буре, в бешеном хаосе я, конечно, не мог поступать всегда логично, непоколебимо и последовательно, не имея возможности многого предвидеть, уследить за всеми изгибами событий; возможно, что я сделал много ошибок, вполне это допускаю. Одно могу сказать с чистой совестью, перед самим Богом: ни на минуту я не думал о своих личных интересах, ни о своей личной жизни, но все время в помышлениях моих была только моя Родина, все поступки мои имели целью помощь ей, всем сердцем хотел я блага только ей. 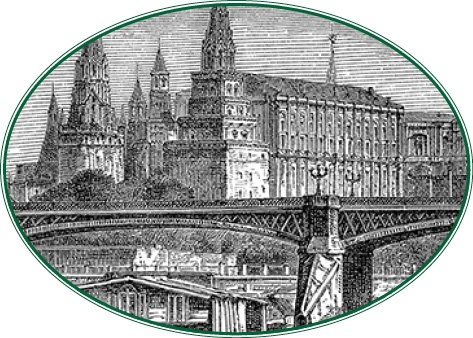
Глава 11 Вот это случай, когда распорядились моим именем по-большевистски, без церемонии, самый скверный и самый значительный, но мелких было без числа, а россказней вокруг моего имени тем более. То я на Красной площади принимал парад вместе с Троцким и в умиленном восторге целовался с ним. То я уехал с ним на юг инспектировать войска… – Как, вы разве в Москве? – восклицали при встрече со мной на улице знакомые. – Да где же мне быть? – Да ведь писали, что вы уехали с Троцким на Украину. – Я Троцкого видел два раза за все время и из Мансуровского переулка не уезжал никуда. – Но вас видели в вагоне у него! – Тот, кто видел, вероятно, страдает галлюцинациями – и т. д. А раз был очень комичный случай, его стоит рассказать подробно. Я говорил уже ранее, что у меня было много друзей крестьян в подгородных селах. Как-то я гостил в селе Дьяковском в избе Прохора Петровича. Недалеко оттуда в селе Коломенском, в бараках, прежде обслуживавших летом кадетские корпуса, большевики устроили колонии для коммунистической молодежи и для детей. Там часто появлялись всевозможные лекторы с агитационными целями, конечно. Как-то один из таковых очень красноречиво рассказывал всевозможную политическую галиматью и, между прочим, объявил: «В данное время на Украине бывший генерал, а теперь один из видных коммунистов Брусилов собрал двухсоттысячную армию для сопротивления Антанте и белогвардейцам…» Случайно присутствовавший при этом наш добрый знакомый доктор вдруг не выдержал и крикнул через головы слушателей: «Послушайте, товарищ, что вы врете! Вон, дойдите-ка через овраг к избе Прохора Петрова, там на завалинке сидит Алексей Алексеевич и вишни ест!..» Общий громкий хохот весьма огорошил советского агитатора, он поспешил скрыться. Конечно, уже больше не рисковал попадаться на глаза крестьянам в этих селах. Но ведь это тут, под Москвой, где меня знали в лицо почти все… Ну а по всей матушке России, по всем медвежьим углам ее что врали, какую дребедень валили на мою несчастную голову! Насчет всевозможных интервьюеров в русских и иностранных газетах, так это уже и говорить нечего – и огорчаться так, как многие мои близкие огорчались, решительно не стоило. Один только раз меня очень задела проделка некоего Саблина. Он был прежде эсер, сидел вместе со мною в Кремле под арестом. Потом сделался большевиком. Я его считал идейным и порядочным человеком, разговаривал с ним, как со знакомым, а не как с журналистом. Как-то на Пасху, помнится, 1922 года он пришел ко мне в день, когда много знакомых у меня перебывало, и я его принял просто за визитера. Вышло так, что, по случаю болезни моей жены, около ее кровати за двумя шкафами сидело несколько ее друзей и ее сестра. А в первой половине комнаты сидел я с Саблиным. Жена моя и все, кто был за шкафами, слышали каждое наше слово – и потому мои показания имеют свидетелей. Мой гость этого не учел. Он все время у меня выспрашивал мои мнения о разных политических вопросах и, между прочим, спросил:
|
 Вернуться к просмотру книги
Вернуться к просмотру книги
 Перейти к Оглавлению
Перейти к Оглавлению
 Перейти к Примечанию
Перейти к Примечанию
 © 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно
© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно