
|
||
|
|
||
|
|
Онлайн книга - Частная жизнь мертвых людей | Автор книги - Александр Феденко
Cтраница 14

– Пожрать дай! – Не маленький – яичницу пожаришь. Отпустил и сел наблюдать. «Ишь, какой юркий. Бабу где-то раздобыл. Если бабу нашел, может быть, и смысл отыщет? Всего вот этого. Вот этого вот. Всего». Баба сразу научилась жарить омлет вместо яичницы. Но дальше омлета дело не пошло. Часы мерно отстукивали миллиарды лет, а смысла – ни на грош. … – Никакого проку от тебя, – сказал Бог и раздавил человека пальцем. Баба закричала. Бог занес палец, чтобы придавить и ее, но она упала и, не переставая кричать, родила мальчонку. Мальчонка тоже заголосил, Бог заткнул уши и зажмурился. Когда Он приоткрыл левый глаз, мириады людей кишели на Его кухне, на Нем самом, и даже Его вечная сковородка для яичницы была полна ими. 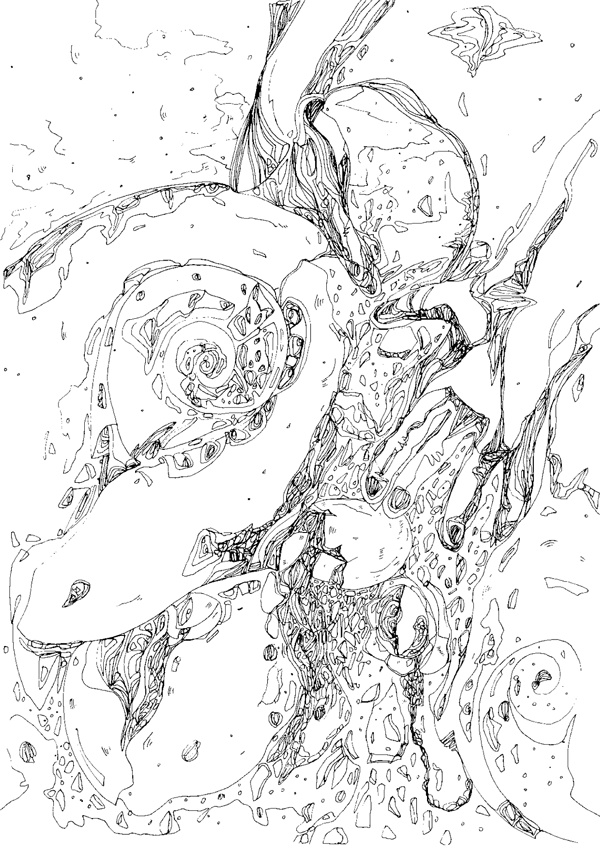
Они кишели так уверенно и целеустремленно, что зашлось сердце Бога: «Нашли, сукины дети, догадались, отыскали!» Он задрожал от волнения и близости разгадки. Язык не слушался и с трудом сплетал слова в громогласную речь: – Кто вы? Куда вы? Никто не отвечал. Люди продолжали уверенно и целеустремленно кишеть. Они даже не заметили Его! Рассвирепев, Он ударил кулаком по столу, прихлопнув сразу несколько миллионов. Кишевшие рядом, но уцелевшие, испуганно остановились и посмотрели на только что живых. Подняли головы и запричитали. Бог решил, что они говорят с Ним, склонился, вглядываясь в их лица и вслушиваясь в их молитвы. Но нет, они лишь затем смотрели в небо, чтобы не видеть лежавших на земле мертвых. … Он вспомнил того, первого. Тот, первый, видел и слышал Его. Говорил с Ним. А эти, хоть и смотрят вверх, – не видят. Когда Он убил первого, все изменилось. С тех пор они бегут. Но куда бегут? Тот, первый, никуда не бежал и жрал свой омлет. Он был такой же, как Он. А эти – жрут омлет и бегут, бегут, бегут… Бегут и жрут на ходу. Выходит – знают, куда бежать. Знают, но не говорят. Миллиарды людей бегут по Нему и не замечают Его. Невыносимо! Хочется кричать. Но Они не услышат. … Залитая водой сковородка киснет в раковине. Остатки яичницы забили слив, из крана капают редкие капли. Настенные часы остервенело отстукивают секунды. Некому на них смотреть. Где-то там кричит только что родившийся человеческий младенец. Сабля
Я купил саблю. У старьевщика. Самую настоящую. У меня никогда не было сабли. Даже игрушечной. И ни у кого из моих друзей. И просто знакомых. Ни детских, ни взрослых. Все люди, которых я встречал, прожили свою жизнь без сабли. Так и доживут. В детстве я был смел. И мои друзья были смелыми. Мы могли стрелять из пулемета по врагам. Спасать любых, даже посторонних, женщин. Без права на возмещение. Скакать на коне и рубить головы саблей. В этом есть прелесть и сила детства. Я вырос и купил саблю. У старьевщика. Недорого. Она никому не была нужна. Вышел на улицу и сразу отрубил голову какому-то пешеходу. Он шагал с многозначительной серьезностью. Проходившая рядом дамочка завизжала. Очень нехорошо так завизжала. Зачем визжать, если приятно визжать не умеешь? И я сразу отрубил ей голову. Мимо брел усатый мужичок. Бессмысленно так брел. С бессмысленными усами. Я сразу понял, что он носит усы без всякого смысла. Видно было, что жил он бестолково, и голова его покатилась так же – без всякого смысла. Появился милиционер и спросил документы. Сказал, что я порядок нарушаю. Я показал справку из поликлиники и читательский билет. И отрубил ему голову. Видно ведь, что человек без души живет и по улицам ходит. Когда никого не осталось, меня сломила усталость от одиночества. Я лег, положил саблю рядом с собой, обнял ее, прижался к ней. Холодное истерзанное лезвие стало теплым. Новая жизнь
В понедельник, в час тридцать дня, Люба Кочерыжкина почувствовала себя дурой – подруги обсуждали последние достижения женской передовой мысли, а Любе нечего было сказать. Из разговора Люба поняла главное – женская передовая мысль шагнула далеко вперед, а Люба – не шагнула. Положение рисовалось катастрофическое – со всех сторон выходило, что Люба Кочерыжкина, исключительно по глупости считавшая себя человеком счастливым, живет зря, да и вовсе не живет, а лишь волочит на себе цепи и вериги давно упраздненного мужского деспотизма и собственной некультурности. Громыхая цепями, Люба поплелась домой – в узилище никчемной жизни своей. По пути к узилищу она остановилась у киоска и купила женский глянцевый журнал – Люба была не такой человек, чтобы капитулировать, пусть и при всей очевидности уже состоявшегося поражения. Она решила бороться за свое счастье, чего бы это ни стоило и каких бы жертв ни потребовало. Налепив котлет, Люба взяла в руки глянцевитое скопище недоступной ей ранее тайной мудрости и испытала восторг от близости своего интеллектуального прозрения. Затаив дыхание, она открыла первую страницу и ступила в мир, суливший ей новое, недоступное доселе счастье. Мир распахнулся удивительными видениями белозубых ртов, крепких ягодиц, шипением шампанского, разбиваемого о борт океанской яхты, возбуждающим запахом типографской краски и ласкающим прикосновением гладкой бумаги к кончикам пальцев. Люба Кочерыжкина пошла по этому миру, как разведчик по вражеской территории, уворачиваясь от коварно поджидавших ее, полных жизни ягодиц и белозубых ртов, раскрывающих объятия при виде ее. Каждый поворот таил опасность, но и обнаруживал неожиданные, неизменно радужные перспективы. Перспективы уже к десятой странице обернулись грудой исторгнутых из шифоньера и приговоренных к вечному забвению блузочек, юбочек и платьишек. – Мне совершенно нечего надеть! – подытожила Люба, намертво завязывая тюк со списанной одеждой. Еще через пять страниц был вынесен и приведен в исполнение другой приговор – в мусорное ведро отправились котлеты, где в сомнительном окружении предались несбыточным мечтаниям. Но главное прозрение ждало Любу на двадцать седьмой странице, и, прозрев, Люба Кочерыжкина поняла, что стоит всеми ногами в пропасти. Двадцать седьмая, трагическая, страница объясняла, что счастливый брак рано или поздно рухнет, если не обсуждать проблемы, неминуемо возникающие в жизни узкоэгоистических супругов. Иван Кочерыжкин, многолетний муж Любы, и Люба за все годы своего священнодейственного союза не обсудили друг с другом ничего достойного того, чтобы называться семейной проблемой, и тем самым не остановили – теперь это делалось очевидным – тихо надвигавшееся несчастье. По крайней мере сейчас, истерически теребя свою память, вспомнить что-то обнадеживающее не получалось. Иван Кочерыжкин явился после работы домой и сразу прошел за стол – он всегда, являясь в дом, даже в посторонний, усаживался за обеденный стол. Не обнаружив там любимых котлет, он удивился, но не придал этому исчезновению глубокого содержания. Меж тем содержание было – оно явилось в образе паровых биточков из шпината и в виде многозначительно подпудренного лица Любы, нависшего над биточками, как гарнир к блюду. |
 Вернуться к просмотру книги
Вернуться к просмотру книги
 Перейти к Оглавлению
Перейти к Оглавлению
 © 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно
© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно