
|
||
|
|
||
|
|
Онлайн книга - Кошмар во сне и наяву | Автор книги - Елена Арсеньева
Cтраница 1

В основу романа положены реальные события. Автор выражает глубокую признательность хирургу Н.Г.П., работникам Нижегородской областной прокуратуры, а также дорогому африканскому другу Алесану А. Сулайе за помощь в работе над книгой. Часть I
Альбина Длинные белокурые пряди, разметавшиеся по полу, были первым, что увидел Гаврилов, когда загнал наконец прыгающий ключ в скважину и справился с замком. В узком длинном коридоре горел свет. В другое время Гаврилов затосковал бы по поводу такого расточительства, не желают экономить электроэнергию, но сейчас он видел только эти волосы на полу рядом с кухонной дверью. Гаврилов отшатнулся назад, невольно выпустив поводок. Задира Мейсон радостно кинулся вперед, огласив затаившуюся тишину хозяйственным лаем, обнюхал локоны неизвестной блондинки, вцепился в них зубами, рванул – и засеменил на своих коротеньких ножках к хозяину, волоча за собой спутанные пряди. Гаврилов обморочно зашарил холодеющими пальцами по стене, силясь за что-нибудь уцепиться. Сейчас Мейсон вытащит в коридор отрезанную окровавленную голову… Пес тявкнул, требуя внимания. Гаврилов осторожно повел глазами – и увидел у своих ног длинноволосый парик. «Тьфу ты, пропасть!» Спасительная струя сквозняка коснулась лица. Дышать стало легче, и все-таки он не переставал ждать новых подвохов… О возможной беде и думал Гаврилов те несколько минут, пока на неверных ногах бежал по двору и трясущимися руками пытался отпереть дверь. Мысленно он готовился к самому худшему. Скажем, что вся квартира окажется обчищена. Но, судя по прихожей, где на вешалке, рядом с каким-то неведомым женским пуховиком, висит дорогущий кожан Рогачева, вещи не тронуты. Однако сейчас до Гаврилова постепенно доходило, что существует нечто худшее, чем ограбление, и это худшее может его подстерегать. Гаврилова просто-таки затрясло от мрачных предчувствий и от неистового желания оказаться сейчас дома, в тепле и уюте, перед телевизором, где шла бы очередная «классика советского кино»: тоже теплая, уютная и необременительная. Знать ничего не хотелось о разбитом стекле, так внезапно бросившемся Гаврилову в глаза… На беду, можно не сомневаться! Хотя, с другой стороны, собаку-то все равно выводить надо было. У него уже вошло в привычку выгуливать Мейсона на этом пустыре между торцом панельной пятиэтажки и фасадом аналогичной девятиэтажки – правда, не достроенной. Никому и в голову не могло бы прийти, что Гаврилов здесь не только собачку пасет, но и Рогачева! Привереде Мейсону этот пустырь жутко не нравился: здесь оставляли свои многозначительные следы доги, сенбернары и разные прочие овчарки – этакие собачьи авторитеты. А карлик Мейсон, смесь болонки с дворняжкой, хоть и знал свое место в собачьей иерархии, все-таки терпеть не мог, когда его в очередной раз тыкали носом в это самое: с дворняжьим-то рылом в сенбернарский ряд! В этом он вполне походил на своего хозяина, который место свое на свете вообще и в московском мегаполисе знал отлично (Гаврилов служил во вневедомственной охране маслозавода и был первым кандидатом на сокращение), однако не выносил чужого превосходства. Именно эти качества: барственность и неприкрытое превосходство над всем остальным миром – и взбесили его в человеке, месяц назад пришедшем смотреть квартиру, которую сдавал Гаврилов. Фамилия нанимателя была Рогачев, однако Гаврилов, который накануне смотрел по телевизору старый-престарый, хотя и подкрашенный, фильм «Идиот», счел, что незнакомца следовало бы назвать Парфеном Рогожиным и никак иначе. Рожа у него была этакая – рогожная, с багровыми пятнами на щеках и опасным, затаенно буйным взглядом. Если бы Гаврилов не родился на свет бесталанным подкаблучником, он сразу дал бы Рогачеву-Рогожину от ворот поворот. Но… где черт не сладит, туда бабу пошлет: благоверная принялась незаметно тыкать в бок, щипать за ляжки – словом, всячески обозначать телодвижениями то, что она обычно выражала словами: «Ну чего цену ломишь? Сам знаешь, сейчас денег у народа – тьфу или чуть больше, ну кто двести баксов отдаст за панельную хрущебу, да еще на первом этаже, да еще с видом на пустырь? Уже год никому ее втюхать не можем. Сбавляй, сбавляй цену-то, не то упустим удачу!» – Двести? – спросил в эту минуту Рогачев, бегая разбойничьим взглядом от Гаврилова к его напрягшейся в улыбке супруге. – А торг уместен? – Уместен, уместен! – так и завилась Гаврилова половина, а сам он… Господи, стоит только представить себе, что его жизнь обошлась бы без тревог сегодняшнего вечера, покажи он себя тогда настоящим мужчиной, – и плакать хочется! – Уместен, отчего же? – буркнул Гаврилов и с облегчением ощутил, как супруга разомкнула на его тощем бедре пальцы, уже готовые к новому щипку. По лицу Рогачева даже подобия довольной улыбки не скользнуло! Выложил сто баксиков задатку (сошлись на половинной цене) – и по-хозяйски двинулся «занимать апартаменты», как он выразился. Гаврилов, окончательно придавленный словом «апартаменты», тащился в кильватере, поскуливая что-то насчет цветочков, которые надобно поливать два раза в неделю отстоянной водой; штор, которые хорошо бы задергивать, когда включаешь свет, чтобы всякая шпана не зарилась на обстановку; да еще чтобы чистота блюлась в квартире, как физическая, так и нравственная, – в том смысле, что соседи недовольны, что жилплощадь сдается, значит, жить будет абы кто; ну и, конечно, чтобы хозяин, ежели он без предупреждения наведается проверить как и что, не оказался в неловком положении, столкнувшись с какой-нибудь… Рогачев стал столбом, так что Гаврилов на полном ходу врезался в его широкую спину. – Соседи умоются! – бросил новый квартиросъемщик загадочную фразу. – А если тебя вдруг занесет без спросу… Он не стал продолжать – только повел могучим кожаным плечом, но Гаврилов всегда славился понятливостью. И ведь послушался он Рогачева! И ведь не заглядывал в собственную, от родителей доставшуюся квартиру ни единого разочка за весь этот месяц… до той поры, когда, выгуливая Мейсона, увидел вдруг зияющую трещину в окне на первом этаже – как раз напротив щели между неплотно задернутыми (а ведь просил же, ведь нарочно же предупреждал!) шторами. «Соседи умоются… соседи умоются…» – эти слова тикали монеточками в голове Гаврилова все те долгие минуты, пока он стоял в коридоре, напряженно уставясь в стену, словно хотел проникнуть сквозь нее взором и разглядеть, что делается в комнате. Почему-то страшно было шаг шагнуть.
|
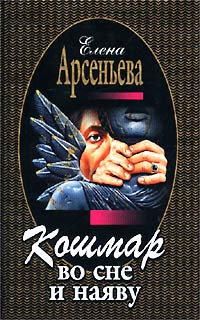
 Вернуться к просмотру книги
Вернуться к просмотру книги
 Перейти к Оглавлению
Перейти к Оглавлению
 Перейти к Примечанию
Перейти к Примечанию
 © 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно
© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно