
|
||
|
|
||
|
|
Онлайн книга - Последний окножираф | Автор книги - Петер Зилахи
Cтраница 18

В Эсеке и Вуковаре я напрасно совал палец в дырки. Никакого кайфа. Дома были такие же, как в любом венгерском городке, но дырки были чужими. Казалось, расстреливали именно дома, а не людей, вымещая обиды на стенах, в которых так и остались пули. Здесь не было ни великого дела, ни великих героев. Гипсовые ангелы монархии с простреленными лбами, эстетика тупого умышленного разрушения в духе мачо. Южнее на дорожном знаке — плакат с Караджичем и надписью: «Мужчина, который не предал».
m
Старинное здание на горе Шаш, где была наша школа, до того как стать цитаделью народного просвещения, принадлежало женскому монастырю. Когда немцы весной 44-го оккупировали Будапешт, в актовом зале разместилась их ставка, здесь же был арестован военный комендант Будапешта. А потом в исторических стенах того же зала мы бегали по кругу на физкультуре. Стоя в позе «свечи», постигали историю родины. Мадьяры, вещал нам моржеусый физрук, явились в Европу в эпоху переселения народов. Это звучало красиво. Наши предки стоят в южнорусской степи, на великом «пути народов», голосуя большим мослом с вырезанным на нем словом «Венгрия», но древние руны, в которых указан пункт назначения, само собой, никто не может прочесть. От Тихого океана до Великой Венгерской низменности, от Амура и до Дуная простирается необъятная степь, говорил нам учитель. Разбег, подскок, прыжок через козла, колесо. На одном конце — венгры, на другом — ГУЛАГ, так что не забывайтесь. И, дабы мы не теряли равновесия, подстраховывал нас оплеухами с обеих рук — у него это называлось правилом золотой середины. Я, понятно, предпочитал лазание по шесту и пробежки по кругу. Хорошо, как-то сказал он мне, я умываю руки, и, навалившись всей тяжестью укоризненной интонации, добавил, что он всего лишь хотел воспитать меня настоящим венгром. Ясно было, что взрослые кое в чем темнят, потому что, с одной стороны, язык был самым большим нашим достоянием, а с другой, мне все время пытались заткнуть фонтан, историю отечества путали с анатомией, патриотизм с грамматикой, солидарность с затрещинами. Словом, венгры пришли сюда тыщу лет назад, и сегодня идут, если еще не померли. Откуда идут и куда — никому не известно. А если кому известно, тот заблуждается. Тот не венгр. Или венгр, но не тот. В смысле — ненастоящий. Что есть венгр — покрыто большим туманом. Ясно только, что венгр ничем особенным не отличается, что выглядит он, как все, везде легко приживается, за исключением Венгрии, где ассимилироваться ему невозможно — мешает общий язык. Венгр — немного сербохорват. Немного бездомный. Он идет великим путем народов, гонит перед собой тучные стада и все время воюет. Налетающие сзади антициклоны подгоняют его гигантскими оплеухами. Ничего не поделаешь. Образ венгра, усвоенный мною в результате изучения Карла Мея и панорамы Фести, изображающей завоевание нашими предками нынешней родины, вобрал в себя прогрессивные традиции Дикого Запада вкупе с Диким Востоком. Жизнь венгров мне представлялась ковбойской, а воевали они, как индейцы. Опережая героев эпохи великих географических открытий, коллекционировали художественные ценности. Писарро и Кортес шли по стопам вождей Лехела и Булчу. Венгерские индейцы, как какую-нибудь почтовую карету на большой дороге, с воплями и плясками атаковали Средневековье, поражая стрелами всех, кто осмеливался высунуть голову. Нападали на викингов и на мавров, разоряли монастыри, напинали Европе по заднице, но гордиться этим не принято. Я, кстати, и не горжусь. А затем, увидав Атлантику, поняли, что пастбища кончились и с гиком обогнуть земной шар не получится. Путь из Европы им преградил океан. Что было делать, пришлось венграм сесть в карету Средневековья (точнее, пристроиться на запятки) и дуть восвояси. Карпатский бассейн когда-то тоже был морем, и прибудь мы сюда своевременно, то стали бы мореплавателями. И было бы у нас свое море — не историческое, не кровью омытое, не арендуемый на уикенд коттедж.
В считанные дни Белград превратился в современный город. Телекамеры снимают демонстрацию со всех вообразимых точек. Где бы ты ни оказался, ты обязательно попадешь в камеру, и каждый знает, что его обязательно покажут по телевизору на каком-нибудь — немецком, итальянском или английском — канале, ораторы, произнося речи, оглядываются в поисках камеры. Все фиксируется. Речь превратилась в поток чернил, лицо — в фотографию, голос — в магнитофонную запись, и был вечер, и было утро, шестидесятый день демонстрации.
На проспекте Сербских князей — импровизированные подмостки. Киношная знаменитость вдохновенно вещает о жертвах прошлого. Антигона, и только. Вокруг люди шепотом вспоминают, какая великолепная грудь была у нее, когда она еще снималась в кино. Мы слушаем в тишине, поеживаясь и вспоминая с печалью в сердце, как вольно и гордо реяли на ветру ее груди в то вечное югославское лето. Лицо партнера размыло время, на его месте мог быть любой из нас, он заключает в объятия ее бедра, на берегу Которской бухты они пьют черногорское пиво, потом едут в Дубровник и на закате любят друг друга.
Я просыпаюсь на рассвете, птицы не поют. Я сажусь в кресло, слушаю, нет, не поют. Старый китайский трюк, из-за шума птицы не смогли сесть на землю. В парке Дружбы я нашел балканскую горлицу, почти замерзшую. Она молча сидела на ветке, тамагочи-самоубийца. На карте Югославия похожа на сидящую птицу. Черногория — ее ноги, Македония — хвост, Сербия — крыло, Хорватия — шея, Босния-Герцеговина — грудь и живот, Словения — голова, Истрия — клюв. Устроившись на насесте Адриатического побережья, она разглядывает сапог. На демонстрацию ходят с орешками. Стоишь себе и жуешь. Голова, стало быть, чем-то занята. Ты не просто участвуешь в демонстрации — ты грызешь орешки, тем самым как бы отстраняясь от происходящего. Орешки не позволяют тебе скандировать лозунги, хлопать в ладоши, тебе не могут ничего сунуть в руки. Полкило арахиса помогает продержаться на холоде. Подтапливает и смазывает изнутри. Настоящий профи берет с собою арахис, сигары, карманную фляжку и шарф. Набив карманы, он отправляется спозаранку, перебирая орешки, как четки. Идет и лущит их, бормоча арахисовые мантры. Во время митинговых речей, перед кордоном, в транспортных пробках он жует в режиме нон-стоп. Когда ничего интересного нет, он выковыривает орешки из зубов. Арахисовая скорлупа — отход органический, политически нейтральный. Орешки на демонстрации — это мировоззрение. С их помощью можно знакомиться. Не хочешь орешков? И они жуют вместе. Он чистит орешки для девушки и кормит ее с ладони.
|
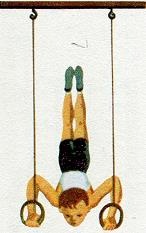





 Вернуться к просмотру книги
Вернуться к просмотру книги
 Перейти к Оглавлению
Перейти к Оглавлению
 Перейти к Примечанию
Перейти к Примечанию
 © 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно
© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно