
|
||
|
|
||
|
|
Онлайн книга - Эликсир Купрума Эса | Автор книги - Юрий Сотник
Cтраница 46

Куприян Семёнович был помещён в двухместную палату, но находился в ней один: койка у противоположной стены пустовала. Учитель сложил руки на груди, да так и пролежал до вечера, уставившись в потолок, стараясь представить себе, какие это «добрые дела» творит сейчас Зойка и к чему это всё может привести. 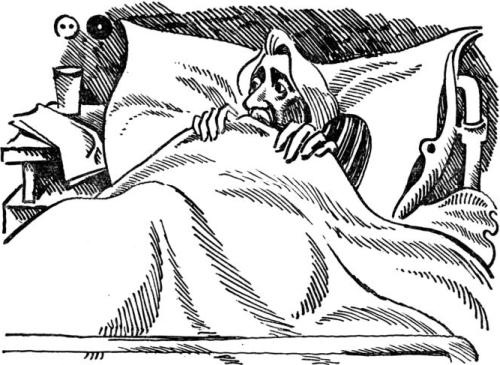
На следующий день ему встать не разрешили, и он завтракал лежа в постели. После завтрака учитель задремал, потому что ночью спал плохо, несмотря на принятые таблетки. Сквозь дрёму он слышал, как в палату вроде бы внесли ещё кого-то, уложили на соседнюю кровать и что-то делали с ним, вполголоса переговариваясь. Но Куприян Семёнович глаз не открыл, продолжая дремать. Лишь часа через два с половиной он покосился на своего соседа – и вдруг увидел, что перед ним зять его старой приятельницы, да ещё и отец самой Зойки Ладошиной. Тот лежал, как и учитель, сложив руки на груди, и смотрел в потолок, временами помаргивая. Куприян Семёнович повернул к нему голову. – Если не ошибаюсь, Митрофан Петрович? – сказал он тихо. Ладошин в свою очередь повернул голову: – Куприян Семёнович? – Вот именно. Тоже сердце? – Оно. – Сильная боль? – Да сейчас прошло. Но подозревают инфаркт. – Модная болезнь. Да. Оба отвернулись друг от друга, и вдруг Митрофан Петрович сказал громко, энергично, хотя ему запретили не только говорить, но даже шевелиться: – Вы счастливый человек, Куприян Семёнович! – А именно? – У вас только сердце, а у меня ещё что-то с мозгом. – То есть? И, не оборачиваясь, по-прежнему глядя в потолок, Митрофан Петрович опять заговорил: – Сижу я вчера вечером, болтаю с дочкой. Вдруг она говорит: «Папа, подари завтра Дворцу пионеров станок с программным управлением». А это… а это тысячи и тысячи… Ну, подумал, дочка сама не знает, о чём говорит, пошутил по этому поводу… Тут Митрофан Петрович надолго замолчал, а Куприян Семёнович повернулся на правый бок, поджал под себя колени, подложил под голову ладонь: – Так-так! Я вас слушаю. – А ночью, понимаете, начинает меня забирать: вот, мол, должен я завтра отправить этот проклятый станок Дворцу пионеров, и всё тут! Так до утра и не уснул. Сам не понимаю, что со мной сделалось… Митрофан Петрович опять помолчал. Ему, как видно, трудно было говорить. А учитель весь съёжился: – Да-да! Слушаю вас. – Приезжаю на работу – не отпускает… эта идея. Вызываю начальника отдела сбыта, понимаю, что даю явно нелепое, явно преступное распоряжение, но ничего с собой сделать не могу. И снова наступила пауза, и снова Куприян Семёнович сказал на этот раз чуть слышно: – Да-да! – Уж не помню, как я добился, чтобы они при мне отправили этот проклятый станок. А как только отправили, сразу чувствую: ну, отпустило. – Гм! Да! – сказал Купрум Эс. – Думаю: что же это я натворил?! Вызываю к себе заместителя… и только успел сказать: «Выручайте станок!» Тут меня прихватило: сердце. После этого оба собеседника долго молчали, а затем Ладошин опять заговорил, на этот раз уже тихо: – Понимаете, Куприян Семёнович… сердце – что! Сердце подлечат, и я опять на работе. Но ведь станок-то! Это значит, что мозг поражён. Сегодня я нормальный, а завтра снова что-нибудь выкину. Куприяну Семёновичу стало знобко, и он натянул себе на ухо одеяло. – Н-да. Гм!.. Митрофан Петрович, относительно этого вы можете не беспокоиться. Мне… мне подобные заболевания хорошо знакомы, и… смею вас уверить, что ничего подобного с вами не повторится. Вот так! Да! Куприян Семёнович не лгал. Он просто знал, что, когда Ладошина выпустят из клиники, эликсир у Зойки испарится. – Дай бог! – сказал Митрофан Петрович. Куприян Семёнович снова лёг на спину, вытянул ноги, и оба собеседника надолго умолкли. Оба сложили руки на груди, оба смотрели в потолок, и каждый думал о своём. Глава двадцать третья
И вот наступила суббота – день великого Зойкиного торжества (по крайней мере, так она предполагала). Она очень рано проснулась, рано позавтракала и рано вышла из дома, так рано, что никто не ждал её на обычном перекрёстке. Но по дороге в школу Зою неожиданно встревожила такая мысль: вдруг эликсир из неё выветрился? Вдруг он выветрился уже вчера, и она совершенно зря отдавала приказания директору дворца, а тот слушал и думал, что дочка Митрофана Петровича просто свихнулась. И Зоя стала соображать, кому бы отдать какое-нибудь безобидное приказание, чтобы проверить, не исчезла ли её способность повелевать. Двери школы были ещё заперты, а во дворе околачивалось всего три или четыре десятка ребят. Из пятого «Б» тут был один только Павлов. Он подошёл к Зое: – Привет, Ладошина! А чего же это ты сегодня без «активистов» своих? Все разбежались? И тут Зоя подумала, что перед ней стоит самый злейший её враг. Ведь это Павлов поносил её всячески после скандала с Нюськой, он предлагал не переизбирать Зою председателем, ведь это он донимал её оскорбительными шуточками, когда читал Родину статью, и это он, Павлов, вслух усомнился в том, что не Зоя уговорила Трубкина поместить статью, а тот сам себя убедил! Вот за всё это она и проверит сейчас на силаче, остался ли в ней ещё эликсир. И как тогда, во время эксперимента с Купрумом Эсом, она не стала долго раздумывать. Она сказала негромко, но властно: – А ну-ка, Павлов, становись на четвереньки! – Ты что, чокнулась? – спросил Павлов и опустился на карачки. – Вот теперь поползай вокруг меня. Пять кругов сделай. И тогда можешь встать. – Дура ненормальная! – сказал Павлов и пополз вокруг Зои. Такое поведение силача обратило на себя внимание ребят, и те подошли узнать, что это за новая игра. – Павлов! Ты чего? – спросил кто-то. – Сейчас, – прохрипел силач, красный как рак. Делая третий круг, он краем глаза заметил, что недалеко от ворот остановились Рудаков и Маршев и смотрят на него: Рудаков – с любопытством, но спокойно, а Маршев – разинув рот и вытаращив глаза. 
К концу пятого круга Лёша почувствовал, что может подняться. Он так и сделал. – Поваляли дурака, и хватит! – сказал он, отряхивая ладони, и поспешил отойти. |
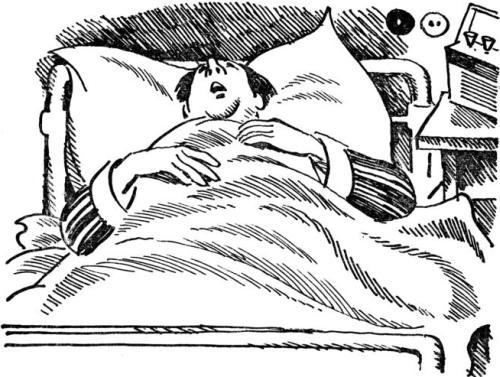
 Вернуться к просмотру книги
Вернуться к просмотру книги
 Перейти к Оглавлению
Перейти к Оглавлению
 © 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно
© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно