
|
||
|
|
||
|
|
Онлайн книга - Путь Проклятого | Автор книги - Ян Валетов
Cтраница 67

Если там и есть кто-то живой, его найдут, когда утихнет пожар. Найдут и приведут. Проклятое солнце! Проклятые евреи! По крайней мере, они сами сделали всю грязную работу и можно только порадоваться, что он не потерял ни одного человека при штурме. Но почему же внутри пульсирует такая ярость? Ведь победа осталась за нами! В любом случае – победа осталась за нами! Он нашел себе место в тени, на ветру, там, где вонючий дым относило ветром в сторону Асфальтового озера, и сидел в окружении личной охраны почти три часа, попивая охлажденное разбавленное вино, вывешенное с наветренной стороны в мокром мехе. Вокруг шла обычная суета – команда зачистки, трофейная и похоронная команды разбирали завалы тел, каждая со своей целью, но никто особо друг другу не мешал. Часть трупов свалили в миквы, подтаскивая крючьями на длинных ручках. Одетых богато выкладывали отдельно, выполняя распоряжение командиров, но тоже, не церемонясь, бросали тела друг на друга. Трофейная команда собирала ценности. Ценностей было немного, а работы – навалом, и солдаты злились, отрезая перстни вместе с пальцами, вырывая из ушей серьги. Когда жар солнца стал нестерпим и раскаленный диск поднялся к зениту, прокуратор увидел, как солдаты волокут что-то по направлению к его навесу. Рядом с ними шел мокрый сотник и такой же мокрый примипил – оба голые, с прилипшими к черепу волосами. На загорелых телах блестели капли воды, которая не успела испариться – это было так здорово, что Сильва им немного позавидовал. Как приятно было бы принять холодную ванну, даже со льдом. Прокуратору подумалось, что если бы его бросили в ледяную воду, то он бы зашипел, подобно раскаленному клинку, опущенному в масло! Но до ледяной ванны было далеко. А вот набрать пару вёдер воды и обмыться просто, по-солдатски…. Надо будет приказать, пусть принесут. Примипил вернулся с добычей. Две женщины – одна сравнительно молодая, другая гораздо старше (ей за сорок, определил Сильва, глядя на пленницу сквозь пальцы) и трое детей – девочки. Все разного возраста – старшей лет одиннадцать, младшей – пять. Средней – лет восемь, а то и меньше. Все мокрые, дрожащие, в глазах даже не страх – ужас, прикрикни на них – и они тут же умрут. Похожи на котят, которых передумали топить. Для допроса – самое то. Ни бить, ни упрашивать не надо – сами расскажут все. Женщин швырнули к его ногам. – Прятались в трубах, – пояснил сотник. – Едва выцарапали сучек. И показал прокушенную руку. Прокуратор поднял глаза на пленниц, и они, казалось, перестали дышать. – Я не обещаю вам жизнь, – сказал Флавий Сильва на арамейском. – Но если ваш рассказ мне понравится, у вас будет шанс. У вас. Он кивнул в сторону детей. – И у них. Вы меня поняли? – Да, поняли, господин! – ответила та, что постарше. – Расскажите, что здесь произошло этой ночью. Старшая женщина заплакала, а младшая посмотрела прокуратору в глаза злым, пересохшим от ненависти взглядом. Страх из него куда-то испарился. Ну, что ж…. Тем лучше. Во всяком случае, она не притворяется. На этой земле не будет мира, пока жив хотя бы один еврей. Значит, надо не оставить ни одного. К женщинам это тоже относится. – Так что произошло этой ночью, – сказал Сильва, добавив металла в голос. – Вы меня понимаете? Или я плохо говорю по-арамейски? Глава 28
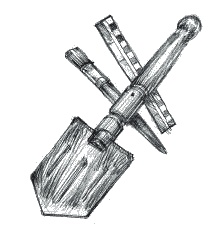
Италия. Венеция. Сентябрь 2008. Чезаре выглядел испуганным. Более того, он выглядел почти безумным. Немыслимая широкополая шляпа из соломки с разлохмаченными неопрятными краями, закрывавшая пол-лица не могла скрыть покрасневшие воспаленные глаза и бегающий взгляд. Казалось, профессор Каприо не может сфокусировать внимание на чем-нибудь одном, а все ищет и ищет, за что бы зацепиться размытым взором. Линзы очков были грязными, захватанными, рубашка застиранной, некогда светлые брюки из дорогой льняной ткани все в пятнах. Картина получалась неутешительная, глядеть на Чезаре такого – постаревшего, опустившегося, растерянного – было очень больно. Всегда неприятно наблюдать, как жизнь кого-то пережёвывает, а уж когда по наклонной катится совершенно безобидный, талантливый и немало натерпевшийся человек… Что тут говорить! Рувим знал профессора не первый год. При всех странностях свойственных людям творческих профессий, Каприо был далек от сумасшествия, как горячо любимая им история – от американского футбола. Все потрясения итальянец переносил стоически, все более и более погружаясь в пахнущий пылью, старой кожей и деревом мир древних архивов и библиотек. Конечно, как все зацикленные на предмете познания ученые, Каприо со стороны выглядел странновато. Но безумие?… Нет, нет и еще раз нет! Ничего подобного в поведении Чезаре профессор Кац не замечал. Их последняя встреча на Патмосе была чрезвычайно конструктивной, Каприо даже настоял на том, чтобы работа Рувима по переводу писем Иосифа Флавия была оплачена, и спустя месяца три, после того, как Кац отослал файлы на почту коллеги, на его домашний адрес пришел конверт с чеком. Сумма оказалась не то чтобы внушительная, но как повод для радости вполне годилась. Когда за следующие три месяца Рувим не получил от Чезаре ни одной весточки, он не удивился. Ученые, работающие со старыми рукописями, становятся очень неторопливы. А куда спешить? Все упомянутые в древних манускриптах давно умерли, сменились страны, ушли в небытие цивилизации. Чезаре мог написать и через год. А мог и через два. Кто знает, чем он сейчас занят? Но удивляло другое: находка подлинных писем Иосифа Флавия должна была стать сенсацией в мире историков, да и во всем цивилизованном мире тоже, но этого не произошло. До сегодняшнего дня ни один из документов не был показан публике. В принципе, и это Рувим еще мог понять – библиотека монастыря не хотела излишней огласки. Причины этого были открыты любому, кто знал о существовании огромного рынка нелегальных исторических документов – каждое мало-мальски достойное собрание древних книг и рукописей подвергается постоянному риску краж. Монахи и так с трудом спасали ценнейшую коллекцию от разворовывания и в рекламе не нуждались. Их задачей было оцифровать библиотеку, а для такой работы, как известно, лучше всего подходит тишина. Скорее всего, Каприо получил от начальства запрет публиковать материалы, такой же, какой в свое время наложил на профессора Каца. Сам Рувим не имел права ни обнародовать перевод, ни упоминать в прессе о существовании подписанных знаменитым писателем свитков. Копии переводов, сделанные Кацем в прошлом году, лежали в закрытых папках на его компьютере, а распечатки сканов, с которыми он работал, – в одном из ящиков необъятного письменного стола. Работа была интересной, само соприкосновение с легендарным писателем, которого еврейский мир по сию пору считал ренегатом, стоило того, чтобы потратить на переводы любое время, но Рувим справился достаточно быстро.
|
 Вернуться к просмотру книги
Вернуться к просмотру книги
 Перейти к Оглавлению
Перейти к Оглавлению
 Перейти к Примечанию
Перейти к Примечанию
 © 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно
© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно