
|
||
|
|
||
|
|
Онлайн книга - Валькирия [= Тот, кого я всегда жду ] | Автор книги - Мария Семенова
Cтраница 1

Баснь первая. Варяги
1
Гой ты, берёзка мы тебя срубили сгуби и ты мужа сломи ему голову на правую сторону с правой на левую Русская песня Я иду учить тебя смеяться… Ритуальная песня Гадюка была красивая: толстая, тугая, до кончика хвоста оплетённая замысловатым узором. И очень проворная к исходу солнечного дня. Прошуршав, она стекла с валуна в густую траву, растворилась в кудрявой зелени папоротника. – Прости, змёюшка, – сказала я виновато, – не сердись на топотунью невежливую. Вернулась бы. Не мал камешек, не подерёмся. Она жила здесь всегда, сколько я себя помнила. И всегда я говорила ей одни и те же слова. Но ни разу ещё змея не вернулась. Я сняла с плеч замызганный берестяной кузов и тронула камень. Серый гранитный лоб отдавал ласковое тепло. Я взобралась и легла, блаженно вытягиваясь. Не очень легко было меня приморить, но с зари на ногах, да по горкам – умаешься. Вражда девке с кузовком, что не ходит он пешком! Летние облака плыли над вершинами леса, предвечернее солнце понемногу их золотило. Облака сходились и расходились, а меж ними светила бездонная синева. Вот синий разрыв меж двух белых комков стал похож на токующего глухаря: не всякая человеческая рука сумела бы так вывести распущенные крылья, изогнутую шею птицы, закинутую головку… А вот зыбко возник вдалеке насторожённый, принюхивающийся вепрь… Облака сметанились, их края теряли чёткость и понемногу смыкались. За такими облаками частенько следуют страшенные тучи. Скоро солнышку придёт пора отдыхать, прятаться с глаз за косматый земной горб. Поднимется по стволам густеющая темнота, пробудится в дупле сова, загорится во мраке зелёный глаз лесного кота… Если очень спешить, я, пожалуй, поспею домой до темноты. Но домой не хотелось. Совсем не хотелось. Мягко скакнул большой зверь. Светлошёрстный, ростом в хорошего волка пёс встал надо мной, заглядывая в глаза. Влажный язык трепетал меж длинных клыков. Я лениво подняла руку, запустила пальцы в густой мех на его груди. Он зевнул и свернулся рядом, уткнувшись мне в бок головой. Я положила ладонь ему на загривок. Друг верный. Все в нашем роду боялись леса. Все, кроме меня. Правда, был ещё дедушка Мал, прозванный за непомерную силу Ломком. Однажды в малиннике поднялся на него свирепый медведь; не растерялся дедушка, ответил объятием на объятие и палкой, сжатой в руках, переломил мохнатую спину, раздавил жирный загривок… Как раз в то лето бабушка родила ему старшенького – моего дядьку. А годик спустя и отец явился на свет. Всем хороши удались сынки, и как не удаться с такими-то именами: Ждан да Желан! Но начали подрастать, и оказалось, что силы великой не воспринял ни один. Покачал дед Ломок седой головой, уселся ждать внуков. Внуки не задержались. Третьим сыном порадовала дядьку жена, когда отец тоже привёл в дом молодую. Взялись ладить ещё избу, а поднялся новый сруб подле родительского – погадали. Увязали хлеб в шубу и подняли наверх вместе с матицей, потом перерубили верёвку и стали смотреть, как упадёт. Вещий хлебушко лёг славно, верхней корочкой кверху – к мальчишкам. Радовался отец, песни пел, выглаживая люльку для сына… но первенца подменили у матери в животе, и родилась я. Дядькины сыновья долго потом не желали считать меня за сестру, дразнили – ведьмин подкидыш… А стояла тогда, сказывали, страшноватая зимняя ночь, и огромные заснеженные ели почти доставали луну, а зелёные звёзды мерцали и прятались – с моря надвигалась метель… вот и назвали меня без большой затеи – Зима. Зимушка да Зимушка, пока бегала по двору в рубашонке. Рубаху сняла, Зимкой начали кликать. А своих детей заведу, уважать станут, Зимой Желановной величать… да. Все в нашем роду боялись чащобы. Сто лет уже мстил нам лес и совсем не собирался прощать, а если по совести, так было за что – потом расскажу. Лес мстил жестоко. Ещё жил дедушка, когда проклятие настигло отца. Рухнуло подсечённое дерево, да не туда, куда направляли… Опечалился дед Ломок и подался, постарел. Меня он крепко любил. Все мужья спрашивают с жены сыновей, а сами баловать дочек рады-радёшеньки. А уж деды внучек – втройне. Умер отец, призвал дедушка дядьку Ждана и настрого велел ему взять мать меньшицею, не оставить меня в сиротстве, а её в горьком вдовстве. Дядьке что! И была у нас теперь полна изба младших сестрёнок. Восемь рук, восемь ног, четыре рта. Ручки, правда, покамест больше любили браться за ложку, а резвы ножки – бегать от дела. Зато рты болтали без устали… Я раскрыла глаза, отыскала на небе солнце. Нет уж, не побегу домой. Пусть Белёна хозяйничает, ничего, рученьки не отсохнут. А то кашу стряпать она малое дитятко, а перед парнями вертеться – куда как взросла! После деда я одна не замыкалась от леса крепким засовом. Было дело: мать в сердцах настегала меня, голенастую шестилетку, за праздность, за то, что весь день ловила в озере раков. Добыча вполне годилась в горшок и, наверное, погодя как раз там и оказалась, но мне уже не было дела. Зарёванная, встрёпанная, вылетела я за порог… Ну и пусть, заходился во мне кто-то другой. Пусть обманет, уведёт незнамо куда обросший листьями Леший, утопит Болотный Хозяин, порвёт безжалостный зверь!.. Убежала я в тот день далеко. От усталости помалу иссякла обида, я вспомнила, что надо было бояться. Но, диво, никто не спешил рвать меня на клочки, не околдовывал, не пугал. Земляничная поляна осушила детские слёзы, мохнатая ёлка-шатёр поманила спрятаться от дождя… я и проспала под ней до утра, как на полатях. И ночь напролёт кто-то большой стоял подле, гнал всё злое прочь от меня и из моих снов… А утром, как это ни странно, я без забот нашла дорогу домой. Тогда появилась у матери в волосах седина. Начало дитё непослушное убегать в лес на день, на два, только прикрикни… Учить проку не было, – что рукой, что хворостиной. Я слезла с камня и подняла на плечи кузов. Помаешься с таким и запомнишь, что год был грибной. Смех сказать, день таскала – всё ничего, а отдохнула, вдвойне тяжелей стал. Шатёр-ёлка, та самая, ждала невдалеке. Не ошибёшься в избе мимо печи, вот и я выйду к ёлочке хоть ночью, хоть в бешеную метель. Пёс Молчан на трёх ногах поскакал следом за мной. Одна, покалеченная когда-то, под конец дня у него всегда уставала. Когда мне пошёл шестнадцатый год, во двор начали заглядывать матери подросших парней. Разговоров многих не разговаривали, больше смотрели, ловка ли я у печи. Мать знай меня наряжала и чуть не под полом прятала пригожих сестрёнок. И всё было бы как у людей, не ощенись тогда дядькина белая сука. Её детей охотно брали добрые люди, вот и в тот раз пришли из-за дальних лесов весские охотники, кто с чёрной куницей, кто с лисами. Унесли всех щенят, лишь один, слабенький, не глянулся никому. Показался негодным ни к племени, ни на охоту. Дядька и велел его утопить. |
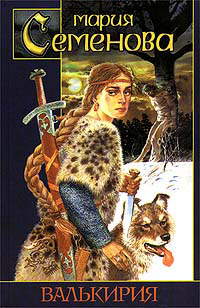
 Вернуться к просмотру книги
Вернуться к просмотру книги
 Перейти к Оглавлению
Перейти к Оглавлению
 © 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно
© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно