
|
||
|
|
||
|
|
Онлайн книга - Напрасные совершенства и другие виньетки | Автор книги - Александр Жолковский
Cтраница 1

Справка
…На ваш запрос сообщаю, что мемуарные виньетки я начал писать в Москве более полувека назад, без какой-либо мысли о публикации. Про себя я называл их “Мемуары”. Они были не только источником непосредственного удовольствия, но и способом – в момент перехода от лингвистики к поэтике – “расписаться”. Поэтика требовала внутреннего раскрепощения, и мемуарные упражнения помогали. Я вернулся к ним в конце 1990-х, пройдя длинный путь дискурсивной эмансипации: лингвистика – поэтика – постструктурализм – демифологизация – эссеистика – рассказы. Но целиком от “научности” не избавился. Не только в том смысле, что некоторые виньетки напоминают литературоведческие эссе. Дело в напряжении между верностью правде (того, как было или, во всяком случае, как я помню, как было) и свободой ее презентации. Врать, преувеличивать, придумывать события нельзя, но что рассказать, а что нет, какую авторскую позу принять, – твое авторское право. Даже в журналистике требование документальности распространяется лишь на сообщаемые факты, позволяя репортеру вольности в обращении с собственной персоной как еще одним повествовательным приемом. Стержень жанра – авторский образ виньетиста, находящийся на опасном стыке “правды” и “свободы”. Он присутствует в реминисцентной перспективе, в манере рассказывания (часто “научной”) и в рассказываемых историях. На всех трех уровнях он проблематизируется. Мемуарист предстает неуверенным в фактах, повествователь – амбивалентным в оценках, а герой попадает под удар как фабульно, так и экзистенциально, оказываясь не только свидетелем и жертвой событий, но и их соучастником-совиновником. Присочинение постыдных фактов не допускается, их и так хватает. Главное мемуарное правило – не забыть на себя оборотиться. Не всякий вспомнившийся эпизод, любопытный исторически, этнографически или автобиографически (и забавный в устном варианте), представляет законный материал для виньетки. Критериев отсеивания много, и я не берусь их сформулировать, но мне, как правило, более или менее ясно, есть ли в эпизоде что-то “мое”, то есть, выражаясь нескромно, что-то, что именно мне стоит тревожиться описывать. Кстати, о нескромности. В виньетках часто констатируют авторский “нарциссизм”. Но авторство вещь вообще нескромная. Особенно нахальное занятие – мемуаристика, тем более – избранный мной кокетливый завиток этого жанра. Я действительно претендую не столько на протоколирование “фактов” (и тех намертво запомнившихся словечек, ради которых по большей части предпринимается рассказ), сколько на интересность собственного в них соучастия и их ретроспективного преподнесения. Последнее состоит, среди прочего, в словесной полировке, организации сюжетных рифм, отделке заголовков, реплик, концовок и т. п. Тем самым происходит дальнейшее отстранение от “правды”, которая всячески эстетизируется, нарциссизируется, виньетизируется. Реванш она берет в другом. Главную “правду” виньеток я полагаю в самой решимости написать их и написать так, как хочется. У меня есть знакомые, которые видели, помнят и могли бы рассказать гораздо больше и лучше, чем я. Могли бы, но не могут, во всяком случае, публично. Боятся. Боятся занять позицию – идейную, стилистическую, самопрезентационную. Иными словами, боятся авторства. Авторский имидж служит не только формальным приемом, но и той кариатидой, которая подпирает, в конечном счете, все здание, сама же держится мышечным усилием реального автора. Нужда в усилиях становится ощутимой, когда друзья вдруг единодушно ополчаются против какой-нибудь особенно рискованной виньетки, мотивируя это, разумеется, формальными соображениями (“не в вашем стиле”). Но не буду преувеличивать своего авторского героизма. Виньетки написаны не с последней прямотой (да и у Мандельштама она почему-то ассоциируется с противопоставлением шерри-бренди как бредней не менее сомнительным Мэри и коктейлям), а в условном жанре, задающем сложный баланс непосредственных впечатлений и ретроспективных оценок, фактографических констатаций и фигур речи, откровенностей и умолчаний. Умолчания, впрочем, не окончательны, или, если воспользоваться макабрическим англицизмом, не терминальны: заведен и пополняется файл, который я, с оглядкой на Ходжу Насреддина (“за тридцать лет либо я, либо шах, либо ишак – кто-нибудь умрет”), про себя называю посмертным. Часть I
Яблоко или гулять Консервы
Мои самые ранние воспоминания довольно поздние. В отличие от Толстого, который сохранил память о себе как о трехмесячном младенце, то возвышающем свой голос против тугих свивальников, то блаженствующем в купальном корыте, от Пастернака, который вспоминал, как четырехлетним проснулся как раз, когда в гостях у родителей был Толстой (“Боренька знал, когда проснуться”, – язвила Ахматова), и от Ахматовой, писавшей, правда, со слов старших, что вроде бы помнила себя чуть ли не двухлетним ребенком, – я более или менее толком помню о себе что-то лет с шести, да и то не всегда ясно и отчасти по рассказам взрослых. В Москву из эвакуации мы вернулись летом 1943-го. О знакомстве с Женькой Зенкевичем – солнечным августовским днем он с сачком гонялся за крапивницами – я уже вспоминал. [1] Примерно к тому же времени относится память о первой прогулке на автомобиле. Это случилось, наоборот, вечером и окутано в моей памяти некоторым мраком. 
На Остоженке до войны. Мне три с половиной Из Ленинграда приехал “дядя Пия”. В кавычках потому, что мне неясно, кому в нашей семье он мог приходиться столь близким родственником, а также потому, что загадочно звучало и само его имя, Пия, по сути женское (потом в Доме творчества композиторов в Иванове много лет работала веселая подавальщица Пия), при том, что каким-то образом я помню и его полное имя-отчество, Пий Григорьевич, хотя больше никогда его не видел и разговоров о нем не слышал. А если он все-таки был нашим родственником, то тогда, конечно, с маминой, в анамнезе еврейско-киевской, стороны, с чем совместимо отчество Григорьевич, допускающее еврейскую генеалогию, но диссонирует вызывающе христианское и даже католическое имя Пий (носившееся, в частности, тогдашним папой Пием XII, старшим современником нашего “дяди”). Дядя Пия запомнился. Он был высокого роста, худой, с резкими чертами лица и седыми волосами и, судя по обращению с ним взрослых – мамы, папы и маминого двоюродного брата, тоже киевлянина дяди Толи (Тобиаса Борисовича), – очень авторитетный. В частности, он говорил о том, как теперь, с приближением победы над немцами, пойдет жизнь. Например, снова, как до войны, будут такси. Из того, что возвращение такси откладывалось на будущее, я заключаю, что автомобильная поездка, о которой идет речь, была предпринята не на такси. То есть либо дядя Пия поймал левую машину (что кажется мне маловероятным, хотя кто знает), либо у него как у важного лица, вероятнее всего, командировочного, была в распоряжении служебная, на каковой мы и поехали. Садились ли мы в нее перед нашим домом (Метростроевская, а когда-то и теперь опять Остоженка, 41) или, что почему-то кажется более похожим на правду, на Садовом кольце, я не помню, но знаю, что вышли мы из нее после поездки именно на углу Садового. Потому что знаю наизусть (увы, в пересказе родителей, не преминувших занести речи гениального ребенка в семейную красную книгу) свое афористическое резюме:
|
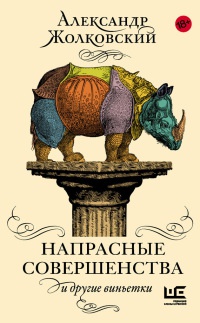

 Вернуться к просмотру книги
Вернуться к просмотру книги
 Перейти к Оглавлению
Перейти к Оглавлению
 Перейти к Примечанию
Перейти к Примечанию
 © 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно
© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно