
|
||
|
|
||
|
|
Онлайн книга - Ночь каллиграфов | Автор книги - Ясмин Гата
Cтраница 1

Посвящается Фабрису Я угасла 26 апреля 1986 года в возрасте восьмидесяти трех лет. В Стамбуле, в саду Эмирган, бушевал Фестиваль тюльпанов. Утром мой сын Недим сообщил о моей кончине в муниципалитет прибрежной деревушки Бейлербей – ее домики по-турецки расселились на холмах, с той стороны Босфора, которая в Азии. Ушла я тихо, без суеты, так же как жила: ни крика, ни слез. Я никогда не страшилась смерти, а она жестока лишь с теми, кто ее боится. Смерть моя была мягкой, как опущенный в чернильницу кончик тростникового пера. Она пришла быстрее, чем высыхают чернила, впитываемые бумагой. Я была готова. Я успела привести в порядок свою жизнь и расставить по местам каллиграфические принадлежности. Каламы, [1] макта, [2] дивит, [3] дыша чернилами, стояли у моего изголовья, выстроенные по росту и по порядку, на равном расстоянии друг от друга, чтобы ни ревности, ни ссор. Если бы я заранее не позаботилась их расставить, после моей смерти они вцепились бы друг другу в горло. А теперь я могла уйти спокойно, оставить с миром инструменты, ставшие продолжением руки, отпечатком ладони. Мои верные друзья, послушные помощники, вы почти вышли из повиновения, когда безумие и болезнь настигли вашу хозяйку, но все это теперь в прошлом. Они стали свидетелями моей смерти: застыли на месте, когда она подступила ко мне вплотную, и вновь вздохнули после ее ухода. Моя бренная оболочка их не интересовала, они были счастливы со мной расстаться. По законам ислама меня похоронили в тот же день, на кладбище Эйиуб, глядящем на Босфор со своего холма, в сухой земле, из которой растут стройные кипарисы. На моей могиле установили памятную доску от Стамбульского университета: полированный камень, увенчанный скульптурным венком из цветов и фруктов. Надпись на доске гласит, что я была выдающимся каллиграфом и набожной женщиной. Вокруг моего гроба стояли шестеро: мой сын Недим и его супруга, милая неграмотная Мурхида; моя сестренка Хатем; Мухсин Демиронат, директор стамбульской Академии искусств; и двое из моих учеников – Миневер, иначе Муна, самая одаренная, и Омер, самый ленивый. Они были исполнены торжественной тишины, убежденные почему-то, что именно так им надлежит держаться. Все они испытывали облегчение оттого, что я наконец обрела покой и больше не стану терзаться бесконечными приступами безумия. Мои руки уже не будут бессильно дрожать, лишенные единственной отрады – каллиграфии и ее кокетливой подружки миниатюры. Теперь я спокойна, все тревоги отступили. Тело мое предали земле, и первой кладбище покинула Муна, глядя под ноги и ступая по земле крупными шагами. На следующий день коллеги торопливо сообщили студентам о моем вкладе: по их словам, я модернизировала традиционное искусство каллиграфии, сделав его более открытым для импровизаций, смягчив некогда непреложные правила этого ремесла. Дерзкая трактовка… Только Муна уловила смысл моего труда и постигла тайну моего ухода. * * * Я умерла во сне, будто освободившись от самой себя. В тот день рассудок не покидал меня, и я даже готова была снова взяться за дело, несмотря на дрожание правой руки, которая никак не хотела слушаться. Попытка осталась бесплодной – ни единой линии, ни черточки. Я смирилась и легла на кровать. Я долго выбирала позу, прикидывая, вытянуть ли руки или сложить их на груди. Мои волосы были стянуты на затылке в низкий пучок, юбка строгого преподавательского костюма прикрывала длинные ноги. Я лежала неподвижно, и в слабом утреннем свете кожа моя казалась очень тонкой, почти прозрачной, россыпи коричневых пятен выступили на моих старых руках. Мой орлиный профиль властным подбородком напоминал султана Мехмеда Второго, и лишь опущенные веки придавали моим чертам некоторую мягкость. Я не знала, сколь спокойным будет этот миг. Не ощущала ни радости, ни грусти – я была безучастна. А ведь когда-то я страшилась смерти, мучительно боялась, что она изуродует тело моей усопшей матери, набросится на моего сына Недима, рожденного в браке с Сери, дантистом из Анатолии. С Сери я познакомилась, когда он только вернулся из Германии, куда ездил учиться. Несмотря на западные манеры, внутри он оставался неотесанным, как армянский точильщик ножей, горланивший у нас под окном. От Германии в его памяти остались печальные скамейки в общественных парках и слишком худосочные, по его понятиям, женщины. Он хотел жениться на своей соплеменнице, юной и воспитанной в местных традициях: моя девственность вкупе с образованием представлялись ему залогом будущего процветания. Он был очарован моим швейным мастерством, а мои первые опыты в области каллиграфии, напротив, совершенно его не заинтересовали. Любезный с виду, но черствый в душе, он и профессию себе выбрал соответствующую: дантисты для того и существуют, чтобы выкорчевывать зло с корнем. Мой будущий муж был неразговорчив, совсем как его пациенты, покидавшие его кабинет с перекошенным от боли лицом и застрявшими в горле словами. Я не сомневалась, что мои лучшие годы он вырвет из моей жизни с той же беспощадностью, что и их зубы. В день нашего официального знакомства я пришла при виде жениха в такой ужас, что даже не сумела скрыть испуг, исказивший мое лицо. Красавцем Сери не был: массивное туловище, густые брови, пышные усы. Ничего мне в нем не понравилось, но это не имело значения. У него была манера пристально разглядывать зубы собеседника – профессиональная привычка, пояснял он, и от его тяжелого взгляда мне становилось не по себе. Его круглые глаза, как два надутых шара, выкатились из орбит при виде золотых зубов моего отца, расширенные зрачки бегло пробежали по нёбу моей матери. Когда пациент приходился ему по вкусу, он принимался нетерпеливо приглаживать тонкие кончики усов, готовый немедленно приступить к работе. Мое молчание отец воспринял как знак согласия и назначил день свадьбы. Сери, не отличавшийся особой наблюдательностью, решил, что я неразговорчива от природы, да и в любом случае щедрое приданое было для него важнее женской болтовни. Мою немногословность он трактовал как готовность подчиниться, мое послушание – как признак восхищения. Отец предоставил нам скромный яли на краю семейных владений. Некогда там обитали привратники, но теперь он был подобием склада, где хранились мебель, инструменты и рыболовные снасти. Мать превратила это захламленное помещение в жилое, а отец пристроил еще одну комнату для зубоврачебного кабинета. За пять лет семейной жизни я научилась использовать молчание себе во благо, притворяться, что не слышу упреков и обидных слов мужа, и все время покорно кивала – это движение со временем стало частью меня. Понемногу я утрачивала дар речи, и только рождение сына Недима исторгло из моих уст долгий крик, так что даже чайки, сидевшие вдоль Босфорской плотины, от неожиданности взлетели в воздух. Сери и не подозревал, что я могу издавать такие громкие звуки. Он был опечален, что мои радостные стоны предназначались не ему. |
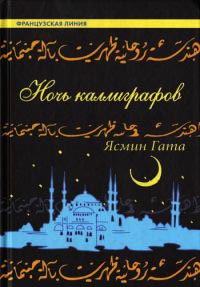
 Вернуться к просмотру книги
Вернуться к просмотру книги
 Перейти к Примечанию
Перейти к Примечанию
 © 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно
© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно