
|
||
|
|
||
|
|
Онлайн книга - Обручение на Чертовом мосту | Автор книги - Елена Арсеньева
Cтраница 1

Раба ли я, или подруга – знает Бог. Е. Ростопчина Пролог
– Не желаете ли, господа, все-таки примириться? Берсенев криво улыбнулся. К чему дурацкие вопросы? Впрочем, этого требует дуэльный кодекс… Ах, как напыжился его противник! Полнейшее ничтожество, расфранченный хлыщ, блестящие лайковые перчатки которого, кажется, составляют его единственное право на звание человека. У этого господина такой вид, словно он впервые прилично оделся. Надо думать, и дуэльное оружие он возьмет в руки впервые, а стало быть, не попадет в цель. Эх, жаль! Берсенев будет держать хорошую мину при плохой игре, однако он-то знает: с такой охотой принял вызов именно потому, что решил предоставить судьбе шанс. Как это аттестовали его на днях: «С такой хандрой просто неприлично появляться между людьми! Первый раз вижу человека, который утратил вкус к жизни после получения столь громадного наследства!» Он утратил не вкус к жизни. Он утратил счастье всей своей жизни! Некое имя прошелестело в его памяти, словно цветущая ветвь сирени. Странное, прекрасное имя. Раньше он слышал его не раз, но тогда оно звучало обыкновенно, казалось совершенно обыденным. И лишь применительно к ней, к ней одной… Берсенев очнулся, почувствовав вдруг, что все уставились на него: и этот юнец, Станислав Белыш, его новоиспеченный знакомец и секундант, и секундант противника, и сам противник, прорычавший: – Мириться с этим негодяем? С этим ничтожеством? Да ни за что на свете! – Довольно, – попросил Берсенев почти ласково. – Вы уже все сказали, что следовало, и этого вполне достаточно, чтобы я убил вас десять или десятижды десять раз. И, может быть, хватит время терять? Я еще надеялся быть сегодня на Конской площади: если помните, вчера по вашей милости я так и не купил себе жеребца взамен моего ненаглядного Байярда. И тут же он спохватился – зачем кому-то знать о Байярде, об Адольфе Иваныче, о побегах и предательствах, невозвратимых потерях? Его противник как-то странно, конфузливо хохотнул. Его одежда, смешки, его нависшие черные брови и рейтарские усищи казались нелепыми, театральными. Да и фамилия была подобающая: Софоклов. Не фамилия, а словно бы дурной театральный псевдоним. А предлог, под которым он вызвал Берсенева?! Якобы тот обесчестил его сестру! Услышав это, Станислав Белыш, который до сей минуты взирал на Софоклова насмешливо, помрачнел: – Ну, коли за сестру… За сестру я бы тоже стрелялся с кем угодно! Берсенев же только плечами пожал. В жизни не знал он ни одной мамзель Софокловой, не то чтобы бесчестить ее! Разве что в былые времена, когда путался с певичками или девками из нумеров? Но среди них отнюдь не встречалось невинных девиц… Вранье, конечно, какое-то. А, вранье – да и ладно, не все ли равно, отчего помирать? «Актеришка, – тоскливо подумал Берсенев. – Ну, надо надеяться, стрелять-то тебя выучили на подмостках, или ты просто подымал картонный, раскрашенный пистолет, в то время как за сценою кто-то кричал: «Ба-бах!», в лучшем случае ударяя в деревяшку?» Он нахмурился. Мучительное воспоминание проплыло в голове, и это опять было связано с нею, с его незабываемой пропажею: как она выскочила на сцену в синем китайковом сарафанчике, полотняной рубашке и новеньких лапотках, а поодаль ударили чем-то деревянным, словно бы выстрелили, и она вздрогнула в притворном испуге, проговорила: «Ах, вот он идет!» – и на ее лице было такое чудесное, несравненное выражение пробуждающейся любви, ожидания, надежды, что у Берсенева сердце зашлось, ибо он возмечтал, чтобы лишь к нему одному, никому иному, были бы устремлены отныне ее любовь, ожидания и надежды!.. Берсенев тряхнул головой, вызывающе улыбнулся противнику и, повинуясь команде Станислава: «Начинаем. Разойдитесь, господа!» – пошел в густой, как молоко, туман. Ну что ж, он готов к любому исходу. Дела вполне в порядке. Несколько необходимых писем были написаны ночью, а в их числе – распоряжения по имениям, а также – еще одно, самое для Берсенева важное. Оно было запечатано в конверт с надписью: Станиславу Белышу, а внутри находилась записка, в которой Берсенев поручал своему молодому приятелю исполнить его предсмертную волю и отыскать, пусть и через год, и через десяток лет, некую особу… Здесь Берсенев перечислял все сведения, какими только располагал о ней. Скудны были они, и слабо верилось, что Станиславу удастся совершить то, что не удалось ему самому. Впрочем, оставалась еще надежда на небеса, которые могут проявить снисходительность к последней, предсмертной просьбе. Да он что, уже почти уверился, что падет от руки этого, как его там… Софоклова? Берсенев невольно усмехнулся. Чудеса! Чем дальше, тем меньшее отвращение вызывал в нем Софоклов. Конечно, он был негодяй – но какой симпатичный негодяй! Правда, иногда он становился по-вчерашнему патетически гадок, этак старательно отвратителен. Однако сейчас, когда туман надежно скрыл его ужимки, Берсеневу вдруг показалось, что всю эту отвратительность Софоклов нарочно напускал на себя, и его кошмарные манеры, и повадки, и само оскорбление, за коим последовал вызов, – не более чем спектакль, маскарад. Вообще удивительно, как это Софоклову удалось до такой степени его раззадорить, чтобы поставить на грань выбора между жизнью и смертью. И тут его размышления были прерваны окликом, долетевшим из белой туманной завесы: – К барьеру! Сходитесь, господа! «Пора!» – сказал себе Берсенев и двинулся вперед, отсчитывая шаги и напряженно всматриваясь в мутную кисею, маячившую перед его глазами. «Один, два… Может быть, вовсе не стрелять? Нет, наоборот, лишь завижу Софоклова, надо выпалить над его головой, а потом уж дать возможность ему… Расстояние-то плевое! Пять, шесть…» Берсенев поднял руку с пистолетом и невольно вздрогнул, когда впереди забрезжили очертания человеческой фигуры. Как, уже? Он не ожидал, что так скоро… К тому же проклятый туман забавлялся со зрением. Софоклов сделался выше, тоньше, а ужасающие цвета его одежды мутно почернели. «Семь, восемь…» Берсенев вскинул пистолет повыше, чтобы пуля наверняка прошла над головой противника. «Девять… десять!» Он медленно потянул курок, и… И нога его скользнула по гладкому корню, словно нарочно вылезшему из земли. Пистолет дернулся вниз, палец резко рванул курок. Грянул выстрел.
|
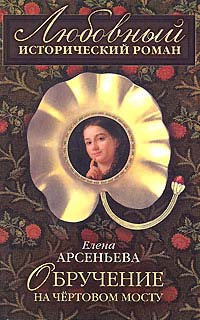
 Вернуться к просмотру книги
Вернуться к просмотру книги
 Перейти к Оглавлению
Перейти к Оглавлению
 Перейти к Примечанию
Перейти к Примечанию
 © 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно
© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно