
|
||
|
|
||
|
|
Онлайн книга - Похождения бравого солдата Швейка | Автор книги - Ярослав Гашек
Cтраница 144

Мужчина вошёл в вагон. — Он немножко говорит по-немецки, — сообщил Швейк, — понимает все ругательства и сам вполне прилично может обложить по-немецки. — Also, zehn Gulden, — обратился он к мужчине. — Fünf Gulden Henne, fünf Auge. Öt forint, — видишь, кукареку: öt forint kukuk, igen. [246] Здесь штабной вагон, понимаешь, жулик? Давай сюда курицу! Сунув ошеломлённому мужику десятку, он забрал курицу, свернул ей шею и мигом вытолкал крестьянина из вагона. Потом дружески пожал ему руку и сказал: — Jó napot, barátom, adieu, [247] катись к своей бабе, не то я скину тебя вниз. — Вот видите, господин обер-лейтенант, всё можно уладить. — успокоил Швейк поручика Лукаша. — Лучше всего, когда дело обходится без скандала, без особых церемоний. Теперь мы с Балоуном сварим вам такой куриный бульон, что в Трансильвании пахнуть будет. Поручик Лукаш не выдержал, вырвал у Швейка из рук злополучную курицу, бросил её на пол и заорал: — Знаете, Швейк, чего заслуживает солдат, который во время войны грабит мирное население? — Почётную смерть от пороха и свинца, — торжественно ответил Швейк. — Но вы, Швейк, заслуживаете петли, ибо вы первый начали грабить. Вы, вы!.. Я просто не знаю, как вас назвать, вы забыли о присяге. У меня голова идёт кругом! Швейк вопросительно посмотрел на поручика Лукаша и быстро отозвался: — Осмелюсь доложить, я не забыл о присяге, которую мы, военные, должны выполнять. Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я торжественно присягал светлейшему князю и государю Францу-Иосифу Первому в том, что буду служить ему верой и правдой, а также генералов его величества и своих начальников буду слушаться, уважать и охранять, их распоряжения и приказания всегда точно выполнять; против всякого неприятеля, кто бы он ни был, где только этого потребует его императорское и королевское величество: на воде, под водой, на земле, в воздухе, в каждый час дня и ночи, во время боя, нападения, борьбы и других всевозможных случаев, везде и всюду… 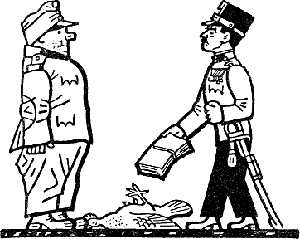
Швейк поднял курицу с пола и продолжал, выпрямившись и глядя прямо в глаза поручику Лукашу: — …всегда и во всякое время сражаться храбро и мужественно; свие войско, свои полки, знамёна и пушки никогда не оставлять, с неприятелем никогда ни в какие соглашения не вступать, всегда вести себя так, как того требуют военные законы и как надлежит вести себя доблестному солдату. Честно я буду жить, с честью и умру, и да поможет мне в этом бог. Аминь. А эту курицу, осмелюсь доложить, я не украл, я никого не ограбил и держал себя, помня о присяге, вполне прилично. 
— Бросишь ты эту курицу или нет, скотина? — взвился поручик Лукаш, ударив Швейка протоколом по руке, в которой тот держал покойницу. — Взгляни на этот протокол. Видишь, чёрным по белому: «Сим препровождается пехотинец Швейк Йозеф, согласно его показаниям, ординарец той же маршевой роты… по обвинению в ограблении…» И теперь ты, мародёр, гадина, будешь мне ещё говорить… Нет, я тебя когда-нибудь убью! Понимаешь? Ну, отвечай, идиот, разбойник, как тебя угораздило? — Осмелюсь доложить, — вежливо ответил Швейк, — здесь просто какое-то недоразумение. Когда мне передали ваше приказание раздобыть или купить чего-нибудь повкуснее, я стал обдумывать, что бы такое достать. За вокзалом не было ничего, кроме конской колбасы и сушёной ослятины. Я, осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, всё как следует взвесил. На фронте надо иметь что-нибудь очень питательное, — тогда легче переносятся военные невзгоды. Мне хотелось доставить вам горизонтальную радость. Задумал я, господин обер-лейтенант, сварить вам куриный суп. — Куриный суп! — повторил за ним поручик, хватаясь за голову. — Так точно, господин обер-лейтенант, куриный суп. Я купил луку и пятьдесят граммов вермишели. Вот всё здесь. В этом кармане лук, в этом — вермишель. Соль и перец имеются у нас, в канцелярии. Оставалось купить только курицу. Пошёл я, значит, за вокзал в Ишатарчу. Это, собственно, деревня, на город даже и не похожа, хоть на первой улице и висит дощечка с надписью: «Город Ишатарча». Прошёл я одну улицу с палисадниками, вторую, третью, четвёртую, пятую, шестую, седьмую, восьмую, девятую, десятую, одиннадцатую, пока не дошёл до конца тринадцатой улицы, где за последним домиком уже начинались луга. Здесь бродили куры. Я подошёл к ним и выбрал самую большую и самую тяжёлую. Извольте посмотреть на неё, господин обер-лейтенант, одно сало, и осматривать не надо, сразу, с первого взгляда видно, что ей как следует подсыпали зерна. Беру я её у всех на виду, они мне что-то кричат по-венгерски, а я держу её за ноги и спрашиваю по-чешски и по-немецки, кому принадлежит эта курица, хочу, мол, её купить. Вдруг в эту самую минуту из крайнего домика выбегают мужик с бабой. Мужик начал меня ругать сначала по-венгерски, а потом по-немецки, — я-де у него средь белого дня украл курицу. Я сказал, чтобы он на меня не кричал, что меня послали купить курицу, — словом, разъяснил, как обстоит дело. А курица, которую я держал за ноги, вдруг стала махать крыльями и хотела улететь, а так как я держал её некрепко, она вырвалась из рук и собиралась сесть на нос своему хозяину. Ну, а он принялся орать, будто я хватил его курицей по морде. А женщина всё время что-то лопотала и звала: «Цып, цып, цып!» Тут какие-то идиоты, ни в чём не разобравшись, привели патруль гонведов, и я сам предложил им пойти на вокзал в комендантское управление, чтобы там моя невинность всплыла, как масло на поверхность воды. Но с господином лейтенантом, который там дежурил, нельзя было договориться, даже когда я попросил его узнать у вас, правда ли, что вы послали меня купить чего-нибудь повкуснее. Он ещё обругал меня, приказал держать язык за зубами, так как, мол, и без разговоров по моим глазам видно, что меня ждёт крепкий сук и хорошая верёвка. Он, по-видимому, был в очень плохом настроении, раз уж дошёл до того, что сгоряча выпалил: такая, мол, толстая морда может быть только у солдата, занимающегося грабежом и воровством. На станцию, мол, поступает много жалоб. Вот третьего дня тоже где-то неподалёку пропал индюк. А когда я ему напомнил, что третьего дня мы ещё были в Рабе, он ответил, что такие отговорки на него не действуют. Послали меня к вам. Да, там ещё на меня раскричался какой-то ефрейтор, которого я сперва не заметил: не знаю, дескать, я, что ли, кто передо мною стоит? Я ответил, что стоит ефрейтор, и если бы его перевели в команду егерей, то он был бы начальником патруля, а в артиллерии — обер-канониром.
|
 Вернуться к просмотру книги
Вернуться к просмотру книги
 Перейти к Оглавлению
Перейти к Оглавлению
 Перейти к Примечанию
Перейти к Примечанию
 © 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно
© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно