
|
||
|
|
||
|
|
Онлайн книга - Хроника одного скандала | Автор книги - Зои Хеллер
Cтраница 1

Посвящается Лэрри и Фрэнки Предисловие
1 марта 1998 г. На днях за ужином Шеба вспоминала свой первый поцелуй с этим юнцом, Конноли. Сама по себе история мне известна, поскольку Шеба не раз делилась со мною деталями. Тем вечером, однако, выяснилось кое-что новое. Я поинтересовалась ощущениями Шебы от их первого объятия: не поразило ли оно чем-нибудь особенным? Шеба рассмеялась. Аромат поразил, сказала. Она прежде не задумывалась о том, как пахнет тело подростка, но в любом случае предположила бы чисто мальчишеский запах — жвачки, к примеру, кока-колы, потных ног. А на деле я в тот момент ощутила аромат мыла и чистого, только что из сушилки, белья. От мальчика пахло прачечной. Представьте, что вы проходите мимо какого-нибудь дома и вас из вентиляционного окошка подвала обдает паром стирки. Такое вот ощущение. Он благоухал чистотой, Барбара. Не то что другие ребята, от которых несет чипсами с луком и сыром… С тех пор как мы поселились в доме Эдди, ни один вечер не проходит без подобных бесед. Шеба обычно присаживается к кухонному столу и устремляет взгляд в зеленую мглу сада за окном. Я сижу напротив, наблюдая, как ее нервные пальцы, будто коньки фигуриста на льду, выписывают замысловатые петли по клеенке. Своим ровным, дикторским голосом Шеба выдает довольно откровенные вещи, но меня ведь всегда и восхищала, среди прочего, способность Шебы открыто говорить о низменном, превращая любую тему в достойную. Мы очень близки с Шебой. Между нами нет секретов. Знаете, Барбара, о чем я подумала, когда он впервые разделся передо мной? О свежих, прямо с грядки, овощах, завернутых в чистейший белый платок. О только что срезанных грибах. Нет, правда. Мне хотелось его съесть. Он мыл голову каждый вечер, буквально каждый вечер. Волосы до того чистые, просто рассыпались. Тщеславие юности. Хотя нет — скорее, вдохновение юности. Собственное тело все еще забавляло его, словно ребенка — новенькая игрушка; он не научился относиться к своему телу с небрежным безразличием взрослых. Шеба вернулась к излюбленной теме. Оду волосам Конноли я слышала по меньшей мере полтора десятка раз за последние несколько месяцев. Сама я не в восторге от волос юнца. На меня они всегда производили неприятное впечатление, напоминая крученое стекловолокно, которое в былые времена продавали в качестве искусственного снега для рождественских елок. Тем не менее я терпеливо поддерживала разговор: — А вы волновались, когда целовали его в первый раз, Шеба? Нет, нет. Да, конечно… Не совсем. (Смех.) А можно быть спокойной и в то же время волноваться? Помню, меня обрадовало, что он целовался без языка. Нужно ведь сначала немножко узнать друг друга, верно? А то уж как-то слишком. Слюни и все такое. Да и неловко капельку, когда партнер пытается проявлять изобретательность в таких узких рамках… Словом, я обрадовалась и, должно быть, чересчур расслабилась, потому что велосипед упал — ну и грохот же был, — и я, понятно, убежала… Во время этих бесед я по большей части молчу. Смысл в том, чтобы заставить говорить Шебу. Впрочем, я и при нормальных обстоятельствах играла в наших отношениях роль слушателя. Вовсе не потому, что Шеба умнее. Думаю, объективно меня любой назвал бы более образованной женщиной. (Шеба неплохо разбирается в искусстве — отдаю ей должное, — однако при всем своем социальном преимуществе она, увы, крайне мало читала.) Нет, Шеба больше болтает просто потому, что говорливее и откровеннее меня. Я по природе осторожна, а она… ну, а она — нет. Для большинства людей правдивость — настолько резкое отклонение от обычного modus operandi [1] , настолько явная патология в повседневном лицемерии, что они считают себя обязанными предупредить о приближающемся миге откровенности. «Честно говоря…» — произносят они; или «Правду сказать…»; или «Можно начистоту?». Нередко, прежде чем продолжить, они желают заручиться клятвой молчания с вашей стороны. «Строго между нами, договорились?.. Дайте слово, что никому не расскажете…» Шеба совсем не такая. Не моргнув и глазом, она выдает самые свои интимные и нелицеприятные секреты. «В детстве я была просто одержима онанизмом, — сообщила она мне в самом начале нашего знакомства, — ей-богу. Маме приходилось заматывать мне трусы клейкой лентой, чтобы я не забавлялась с собой на людях». «Правда?» — отозвалась я, делая вид, что обсуждать такого рода вопросы за чашечкой кофе и батончиком «Кит-Кат» — дело для меня вполне привычное. Думаю, эта беспечная прямота — черта классовая. Если бы я чаще сталкивалась с аристократами, то постигла бы их манеры и перестала удивляться. Но я не знаю никого из высшего общества, кроме Шебы. Ее обескураживающая искренность — экзотика для меня не меньшая, чем, скажем, костяная спица в губе индейца с Амазонки. Предполагается, что Шеба сейчас дремлет наверху (по ночам неважно спит). Однако, судя по доносящемуся до меня скрипу половиц, она вновь кружит по спальне своей маленькой племянницы, куда частенько поднимается после обеда. В этой комнате выросла сама Шеба. Последние несколько месяцев она просиживает там часами, разглядывая флакончики с блестками и клеем в наборах «Юного художника» или перебирая коллекцию кукольных туфелек. Случается, и засыпает — и тогда мне приходится подниматься и будить ее на ужин. Вытянувшись на бело-розовой кроватке маленькой принцессы, с крупными, загрубелыми ступнями, свисающими с края, она выглядит печально и неуместно. Словно великанша, по ошибке забредшая в чужой дом. Наше временное жилище теперь принадлежит Эдди, брату Шебы. Их мать после смерти отца решила, что дом слишком велик для одного человека, и Эдди его выкупил. По-моему, Шеба этим горько обижена. Нечестно, говорит она, что их общее прошлое досталось одному Эдди только потому, что у него больше денег. Эдди с семьей сейчас в Нью-Дели. Американский банк, где он занимает хорошую должность, отправил его в полугодовую командировку. Когда начались неприятности, Шеба позвонила брату в Индию, и он позволил ей пожить в этом доме, пока не подыщет постоянное жилье. С тех пор мы здесь и живем. Трудно представить, что мы станем делать в июне, после возвращения Эдди. Я отказалась от аренды своей квартирки несколько недель назад, а Ричард, муж Шебы, не примет нас ни при каких обстоятельствах, даже на время. Средств на то, чтобы снять другое жилье, у нас, боюсь, недостанет; к тому же в Лондоне вряд ли найдется домовладелец, готовый сдать нам квартиру. Впрочем, я стараюсь не переживать по этому поводу. Довольно с нас и зла нынешнего, как говаривала моя мама. История эта не обо мне. Однако рассказать ее судьба доверила мне, да и сама я тоже играю кое-какую роль в событиях, с которыми намерена вас ознакомить, а потому считаю справедливым в двух словах описать себя и узы, связывающие меня с главной героиней. Мое имя — Барбара Коветт. (Время от времени кто-нибудь из коллег зовет меня Барб или, что уж вовсе нежелательно, Бабс, но я подобных фамильярностей не поощряю.) Двадцать один год, до ухода в январе на пенсию, я жила в районе Арчуэй, что на севере Лондона, и преподавала историю в средней школе Сент-Джордж, расположенной по соседству с моим домом. Там-то, в школе, чуть менее полутора лет назад, я и познакомилась с Батшебой Харт. У большинства из вас, полагаю, это имя на слуху. Шеба — та самая сорокадвухлетняя преподавательница гончарного мастерства, которой предъявили обвинение в насилии над несовершеннолетним, когда обнаружилась ее сексуальная связь с одним из учеников. К началу их романа мальчику исполнилось пятнадцать.
|
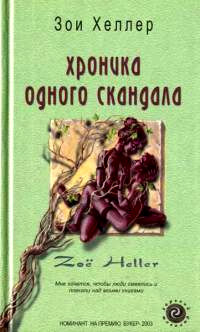
 Вернуться к просмотру книги
Вернуться к просмотру книги
 Перейти к Оглавлению
Перейти к Оглавлению
 Перейти к Примечанию
Перейти к Примечанию
 © 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно
© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно