
|
||
|
|
||
|
|
Онлайн книга - 120 дней Содома | Автор книги - Маркиз Де Сад
Cтраница 34

Настала моя очередь, более удачная, чем две предшествующих; я была предназначена самому Амуру и, когда я его удовлетворила, мне оставалось лишь удивляться тому, что я обнаружила столь странные вкусы у молодого человека, так хорошо созданного природой для того, чтобы нравиться. Он приходит, заставляет меня раздеться, ложится на кровать, приказывает мне присесть на корточки над его лицом и попытаться ртом заставить разрядиться его довольно посредственный член; он просит, он умоляет меня проглотить сперму, как только я почувствую, что она течет. «Не оставайтесь без дела, – прибавил молодой распутник, – пусть ваша пещера наполнит мне рот мочой, которую я обещаю вам проглотить так же, как вы будете глотать мою сперму; и пусть эта прекрасная попка пукает мне в нос». Я принимаюсь за дело и исполняю одновременно три задачи с таким мастерством, что его маленький «анчоус» вскоре извергает весь свой восторг мне в рот; тем временем я глотаю это, а мой Адонис делает то же самое с мочой, которой я заливаю его, вдыхая при этом пуки, ароматом которых я непрерывно одариваю его». 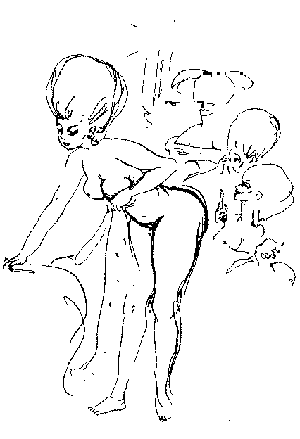
«По правде говоря, мадемуазель, – сказал Дюрсе, – вы бы могли прекрасно обойтись без того, чтобы разоблачать детские забавы моей юности». – «Ах, ах, – молвил, смеясь, Герцог. – Как это? Ты, едва осмеливающийся теперь смотреть на перед, заставлял их писать в те времена?» – «Это правда, – отвечал Дюрсе, я краснею от этого; это ужасно, когда ты должен упрекать себя по поводу мерзостей подобного рода; именно теперь, мой друг, я ощущаю тяжкий груз угрызений совести… Прелестные попки, -вскричал он восторженно, целуя попку Софи, которую привлек к себе, чтобы на мгновение пошалить с ней, – божественные попки, как я упрекаю себя за те лестные слова, которые украл у вас! О восхитительные попки, обещаю вам искупительную жертву, я принесу клятву на ваших алтарях, что никогда больше в жизни не предамся заблуждению. Когда прекрасный зад немного разгорячил его, распутник поставил послушницу в очень неприличную позу, в которой он мог, как мы уже видели выше, заставить ее сосать свой маленький «анчоус», сам сося при этом свежайший и сладострастнейший анус. Дюрсе, слишком пресыщенный подобными удовольствиями, редко обретал в них свою силу; напрасно было сосать его, и он напрасно отвечал на ласки; ему пришлось отменить дело, будучи в состоянии упадка, чертыхаясь и кляня, отложить на какой-то более удачный момент те наслаждения, в которых природа отказывала ему в этот миг. Не все были столь несчастны. Герцог, который прошел в свой кабинет с Коломб, Зеламиром, «Разорванным-Задом» и Терезой, издавал оттуда вопли, которые доказывали, что он счастлив; Коломб, выйдя оттуда отплевывалась изо всех сил, не оставляя никаких сомнений относительно храма, которому герой поклонялся. Что касается Епископа, тот, естественно, возлежал на канапе, под носом у него были ягодицы Аделаиды, член его был у нее во рту; он млел, заставляя девицу пукать; тем временем Кюрваль, стоя, проливал в исступлении свою сперму, заставив Эбе воткнуть в рот свою огромную «трубу». Подали ужин. Герцог решил доказать за ужином, что если счастье состоит в полном удовлетворении всех наслаждении чувств, то трудно быть более счастливым, чем они. «Эти слова но принадлежат распутнику, – сказал Дюрсе. – Как вы можете быть, счастливым, если вы в состоянии удовлетворять себя каждый миг. Счастье состоит не в наслаждении, а в желании; оно означает разбить все преграды на пути к исполнению желания. Клянусь, сказал он, – с тех пор, как я нахожусь здесь, моя сперма ни разу не проливалась лишь из-за тех, которых здесь нет. Да и, впрочем, – прибавил финансист, – я считаю, что нашему счастью не до стает главного: удовольствия сравнивать, удовольствия, которое может родиться из созерцания несчастных, а мы совершенно не видим их здесь. Именно от вида того, кто не наслаждается тем, что имею я, и который страдает, – рождается прелестная возможность сказать себе: да, я счастливее, чем он! Там, где люди будут равными, где не будет существовать различий, – никогда не будем существовать счастья. Это то же самое, что человек, который познает цену здоровью лишь в том случае, когда сам переболел». «В таком случае, – сказал Епископ, – вы считаете, что подлинное наслаждение состоит в созерцании слез тех, кого угнетает бедность?» – «Именно так, – сказал Дюрсе, – в мире, возможно нет никакой другой более чувствительной страсти, чем та, о которой вы только что сказали». – «Как? Не облегчать их страданий?» – спросил Епископ; ему нравилось заставлять Дюрсе высказываться по поводу проблемы, которая всем по вкусу и которую, как все знали, он мог разобрать очень подробно. «Что вы подразумеваете под облегчением страданий? – спросил Дюрсе. – То наслаждение, которое рождается во мне от приятною сравнения их состояния с моим, исчезнет, если я стану облегчатi. их страдания: выведя их из состояния бедности, я дам им вкусить миг счастья, который, делая их похожими на меня, уничтожает всякое наслаждение от сравнения». – «Ну что ж, судя по этому. – молвил Герцог, – надо поступить каким-то образом так, чтобы упрочить это главное различие в счастье; надо, скорее всего, усу губить их положение». – «Это не вызывает сомнений, – сказал Дюрсе, – это-то и объясняет те мерзости, в которых меня упрекали всю мою жизнь. Люди, которым были неизвестны мои побуждения, называли меня грубым, жестоким, варваром; но, смеясь над всеми этими словами, я шел своим путем; признаюсь, я совершал то, что глупцы называют зверствами, но я утверждал наслаждения, вытекающие из приятных сравнений, и я был счастлив.» – «Признай тот факт, – сказал ему Герцог, – подтверди, что больше двадцати раз тебе случалось разорять несчастных лишь для того, чтобы удовлетворить таким образом извращенные вкусы, в которых ты признаешься?» – «Более двадцати раз? – переспросил Дюрсе. – Да нет! Более двухсот раз, друг мой; и я без преувеличения мог бы назвать более четырехсот семей, обреченных теперь просить милостыню, которые оказались в подобном состоянии из-за меня». – «Но ты хотя бы воспользовался этим?» – спросил Кюрваль. – «Почти всегда; но часто я делал это из-за какой-то злости, которую почти всегда возбуждают во мне органы разврата. Я возбуждаюсь, творя зло; я нахожу во зле достаточно острую притягательность; это пробуждает во мне все ощущения наслаждения, и я всецело отдаюсь – из интереса к нему». – «Для меня нет ничего нового в подобном вкусе, – сказал Кюрваль. – Я сотню раз отдавал свой голос, когда был в Парламенте, за то, чтобы вешать несчастных, о которых знал, что они невиновны; я всегда предавался этой мелкой несправедливости, испытывая внутри себя сладострастное щекотание, от которого органы наслаждения в области яичек очень быстро воспламенялись. Судите сами, что я ощущал, когда я совершал гадости». – «Совершенно очевидно, – добавил Герцог, мозг которого начинал распаляться от того, что он теребил руками Зефира, – что преступление таит в себе достаточно очарования, чтобы само по себе воспламенять все чувства, не требуя тою, чтобы мы прибегали к какой-либо другой уловке, – никто не может понять лучше меня, что злодеяния, даже самые далеки от разврата, могут возбуждать, как и те, которые связаны с ним. Лично я возбуждался от воровства, от убийства, от поджога; я абсолютно уверен, что не объект распутства движет нами, а идея зла; и, следовательно, возбуждаются единственно из-за зла, а не из-за предмета возбуждения, причем до такой степени, что если этот объект не способен заставить нас сотворить зло, мы никогда не возбудимся от него.» – «Совершенно верно, – сказал Епископ, – отсюда рождается уверенность в самом большом наслаждении от самой гнусной вещи; это система, от которой нисколько нельзя отклоняться и которая состоит в том, что, чем больше желают породить наслаждения в преступлении, тем ужаснее должно быть это преступление. Что касается меня, господа, – прибавил он, – то если вы позволите мне пояснить на собственном примере, то, признаюсь вам, я уже почти не испытываю того ощущения, о котором вы говорите, то есть я больше не испытываю его от мелких преступлений; если злодейство, которое я совершаю, не включает в себя, насколько это возможно, мерзости, жестокости, коварства, предательства, – это ощущение больше не рождается во мне.» «Ну что же, – сказал Дюрсе, – возможно ли совершать преступления именно так, как они задуманы, и так, как вы только что сказали? Что касается меня, признаюсь, что мое воображение н этом вопросе всегда превосходило имеющиеся у меня средства; я всегда замышлял в тысячу раз больше, чем делал; я всегда жаловался на природу, которая, дав мне желание оскорблять ее, постоянно отнимала у меня средства к этому». – «Существует всего два-три преступления, которые надо совершить в этом мире, – молвил Кюрваль, – а когда они совершены, этим все сказано; остальное не в счет. Сколько раз, черт подери, мне хотелось иметь возможность напасть на солнце, чтобы лишить его Вселенную или воспользоваться им, чтобы устроить всемирный пожар! Вот это были бы преступления, не то, что эти небольшие отклонения, которым мы предаемся и которые ограничиваются превращением в конце года дюжины тварей Божьих в комья земли». |
 Вернуться к просмотру книги
Вернуться к просмотру книги
 Перейти к Оглавлению
Перейти к Оглавлению
 © 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно
© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно