
|
||
|
|
||
|
|
Онлайн книга - Краткая история философии | Автор книги - Найджел Уорбертон
Cтраница 25

А как быть, если кто-то имеет свои взгляды по вопросу о том, что будет лучше для того общества, в котором ты живешь? В конце концов, не все готовы следовать требованиям «всеобщей воли», мало ли, у кого какие соображения. Ответ Руссо столь же знаменит, сколь и страшен. По его мнению, если кто-то не признает, что подчинение законам идет на пользу всему обществу, то такого человека нужно «заставить быть свободным». С его точки зрения, человек, который выступает против того, что служит интересам всего общества, на самом деле не может считаться свободным. «А как можно заставить кого-либо быть свободным?» – спросите вы. Разовью вашу мысль: если я, например, заставлю вас прочитать эту книгу до конца, то вряд ли это можно будет назвать вашим свободным выбором, не так ли? Ведь принуждение – это антоним свободы. Для Руссо, однако, в этом не было никакого противоречия. Если человек не осознает, как правильно поступить в той или иной ситуации, его надо принудить вести себя определенным образом, и он станет свободнее. А так как каждый из нас – часть общества, то мы должны понять, что нам действительно необходимо подчиниться требованиям «всеобщей воли», а не следовать своим эгоистичным желаниям. С этой точки зрения, мы можем быть по-настоящему свободными, только когда следуем «всеобщей воле», даже если нас принуждают к этому. Такова позиция Руссо, однако многие более поздние философы, включая Джона Стюарта Милля (см. главу 24), утверждали, что личная свобода предполагает возможность самостоятельно выбирать из как можно большего количества вариантов поведения. И действительно, есть нечто зловещее в философии Руссо, который, с одной стороны, сокрушался, что человек повсюду закован в цепи, а с другой – полагал, что свободу можно найти в принуждении. Руссо большую часть жизни провел путешествуя по миру, спасаясь от преследований со стороны властей. Иммануил Кант, напротив, практически не покидал свой родной Кёнигсберг, однако вся Европа почувствовала на себе влияние его философии. Глава 19. Реальность в розовых тонах. Иммануил Кант (1)
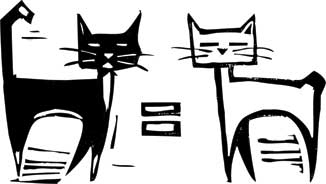
Представьте, что вы надели розовые очки. Теперь все, на что вы смотрите, окрашено в розовый цвет. Даже если вы забудете о том, что они на вас надеты, они все равно влияют на то, как вы видите мир. Иммануил Кант (1724–1804) был убежден, что все мы видим окружающую нас действительность сквозь подобные фильтры, в роли которых выступает наш разум. Именно он определяет, как мы воспринимаем то или иное явление, и формирует наш опыт. Все, чему мы являемся свидетелями, происходит во времени и пространстве, а любое событие имеет причину. Однако, по мнению Канта, так происходит не потому, что это естественно проистекает из природы реальности, а потому что так устроен наш разум. Мы не воспринимаем мир непосредственно. Мы не можем снять очки и увидеть вещи такими, какими он являются «на самом деле». Мы не можем убрать эти фильтры, так как без них вообще будем не способны воспринимать что бы то ни было. Все, что мы можем, это признать существование этих фильтров и постараться понять, как они влияют на наше восприятие действительности. Мышление самого Канта было подчинено логике. Такой же была и его жизнь. Он так никогда и не женился. Каждый его день был расписан по минутам. Чтобы не потерять ни капли драгоценного времени, он велел своему слуге будить его каждое утро ровно в пять часов. Затем он пил чай, выкуривал трубку и садился за работу. Кант был весьма плодовит как писатель и оставил после своей смерти множество книг и статей. В положенное время он отправлялся в университет, где читал лекции. В 16:30 – прогулка; Кант проходил туда и обратно по улице ровно восемь раз. Он был столь пунктуален, что жители его родного Кёнигсберга (нынче Калининград) сверяли по нему часы. Как и большинство философов, Иммануил Кант стремился постичь реальность. Он был метафизиком, и больше всего его интересовали границы нашего познания. Можно даже сказать, что он был одержим этим. Его самая знаменитая работа – «Критика чистого разума» (1781) – посвящена познавательной возможности разума как такового, в отрыве от знаний, получаемых эмпирическим путем. Эту книгу нельзя назвать легким чтивом. Даже сам автор считал ее сухой и трудной для понимания, и был, в общем-то, прав. Лишь немногие могут похвастаться хорошим знанием этого труда, так как большая часть аргументации изобилует специальными терминами и, как следствие, невероятно запутана. Чтение «Критики…» подобно путешествию по джунглям, где вместо лиан слова. Вы не знаете, куда вас ведут, и не видите просвета за «деревьями». Однако центральная идея работы достаточно ясна. Итак, каков же реальный мир на самом деле? Кант полагал, что мы этого никогда не узнаем, так как не можем непосредственно воспринимать то, что он сам называл ноуменальным миром (мир, каков он есть «на самом деле», а не в нашем сознании). Кант использовал этот термин как в единственном числе (ноумен), так и во множественном (ноумены), но даже это, как позднее отметит Гегель (см. главу 22), не совсем корректно, поскольку мы не можем утверждать наверняка, является ли реальный мир чем-то единым или чем-то множественным. Строго говоря, мы вообще ничего не знаем о ноуменальном мире, так как не получаем информацию о нем непосредственно. Нам доступен лишь феноменальный мир, то есть мир, который мы воспринимаем посредством наших чувств, мир, который исследуют ученые. Если вы посмотрите в окно, вы, должно быть, увидите небо, траву, машины, здания и т. д. Все это феномены. Еще раз: ноуменальный мир нам недоступен, только феноменальный. Однако первый незримо присутствует за вторым, представляя собой его более глубинный уровень. Некоторые аспекты реальности всегда будут оставаться за пределами нашего понимания. Однако трудолюбивый разум позволит вам добиться большего понимания реальности, нежели научный подход. Основной вопрос, на который Кант пытался дать ответ в своей «Критике чистого разума», звучит так: «Возможны ли синтетические априорные суждения?». Скорее всего, этот вопрос покажется вам абракадаброй и потребует дальнейших пояснений. И все же центральная идея не столь сложна для понимания, как может показаться. В терминологии Канта «синтетический» является антонимом слова «аналитический». Под термином «аналитический» он понимал то, что является истинным по определению. Например, окружность – это замкнутая кривая, все точки которой равноудалены от центра. Истинность данного суждения не требует дополнительных доказательств. Вы и так понимаете, что всякая окружность будет замкнутой кривой, все точки которой равноудалены от центра, а всякая такая кривая будет окружностью. Нет никакой необходимости проводить дополнительные проверки или ставить опыты, чтобы прийти к данному заключению. Его можно сделать, не вставая с кресла. Сама идея окружности уже предполагает подобное описание. Точно так же аналитическим суждением является то, что млекопитающие – это животные, которые вскармливают своих детенышей молоком. Если некое животное этого не делает, то оно не является млекопитающим. Как видите, аналитические суждения по большей части представляют собой определения и не несут в себе новой информации, они лишь озвучивают то, что и так предполагалось.
|
 Вернуться к просмотру книги
Вернуться к просмотру книги
 Перейти к Оглавлению
Перейти к Оглавлению
 Перейти к Примечанию
Перейти к Примечанию
 © 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно
© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно