
|
||
|
|
||
|
|
Онлайн книга - До конца времен. Сознание, материя и поиск смысла в меняющейся Вселенной | Автор книги - Брайан Грин
Cтраница 1

Предисловие
«Я занимаюсь математикой потому, что стоит доказать теорему — и она останется в математике. Навсегда»1. Это заявление, простое и откровенное, поразило меня. Я учился тогда на втором курсе в колледже и упомянул как-то в разговоре со старшим другом, который много лет преподавал мне самые разные разделы математики, что в рамках курса психологии пишу работу о человеческой мотивации. Его ответ стал для меня поворотным пунктом. До того момента я никогда не задумывался о математике в сколько-нибудь похожем ключе. Для меня математика была диковинной игрой абстрактной точности, в которую играли представители забавного сообщества, радовавшиеся, когда в конце длинного рассуждения неведомо откуда вылезал квадратный корень или деление на ноль. Но после этого замечания все вдруг встало на свои места. «Да, — подумал я, — именно в этом состоит главная притягательность математики». Творческое начало, заключенное в рамки логики и некоторого набора аксиом, подсказывает нам, как можно манипулировать идеями и комбинировать их, чтобы получать неопровержимые истины. Каждый прямоугольный треугольник с допифагоровых времен и навечно подчиняется знаменитой теореме, которая носит имя Пифагора. Исключений не существует. Конечно, можно изменить исходные предположения — и погрузиться в исследование новых царств (к примеру, царства треугольников на искривленной поверхности, подобной поверхности баскетбольного мяча) способных опровергнуть вывод Пифагора. Но определитесь с исходными аксиомами, перепроверьте лишний раз работу — и ваш результат можно будет высекать на камне. Не нужно взбираться на горную вершину, не нужно бродить по пустыне, не нужно бороться с преступным миром. Можно сидеть в удобном кресле за письменным столом и при помощи бумаги, карандаша и острого ума создавать вещи, неподвластные времени. Эта перспектива открыла передо мной новый мир. Я никогда по-настоящему не спрашивал себя, почему меня так сильно привлекают математика и физика. Решать задачи и узнавать, как устроена Вселенная, — вот что меня всегда манило и завораживало. Теперь же я убедился: меня влекло к этим дисциплинам их возвышение над непостоянной природой обыденности. Хотя в то время жизнью моей управляла в первую очередь юношеская эмоциональность, я внезапно понял, что хочу стать участником путешествия к откровениям настолько фундаментальным, что они никогда не изменятся. Пусть возникают и рушатся государства, пусть проходят первенства по бейсболу, пусть приходят и уходят легенды кино, телевидения и сцены. Я хотел провести свою жизнь в попытках хотя бы мельком увидеть что-то исключительное. А пока мне по-прежнему необходимо было написать ту работу по психологии. Требовалось представить теорию о том, почему мы, люди, делаем то, что делаем. Но всякий раз, стоило приступить к работе, проект начинал казаться весьма туманным. Если облечь разумные вроде бы идеи в правильные слова, начинает казаться, что ты, может, все это вообще сам придумал. Я рассказал как-то об этом за обедом в общежитии, и один из проживавших там преподавателей посоветовал мне заглянуть в книгу Освальда Шпенглера «Закат Европы». Шпенглер — немецкий историк и философ — глубоко интересовался математикой и естественными науками; именно поэтому мне и рекомендовали его книгу. Предсказания политического коллапса и завуалированная поддержка фашизма — суть содержания книги, завоевавшего ей и добрую и дурную славу, — вызывают глубокую тревогу и давно уже используются для поддержки пагубных идеологий, но я был слишком зациклен на своей цели, чтобы обратить на них внимание. Меня же заворожила идея Шпенглера о всеобъемлющем наборе принципов, способных пролить свет на скрытые закономерности, проявляющиеся в разнородных культурах, примерно как закономерности, сформулированные в теории дифференциального и интегрального исчисления и евклидовой геометрии, трансформировали представления ученых в физике и математике2. Шпенглер говорил на моем языке. Меня вдохновило, что в тексте по истории с уважением говорилось о математике и физике как о модели прогресса. Но затем я наткнулся на наблюдение, которое застало меня совершенно врасплох: «Человек — единственное существо, которое знает смерть; все остальные стареют, но их сознание полностью ограничено текущим моментом, который, должно быть, представляется им вечным», и это знание порождает «чисто человеческий страх в присутствии смерти». Шпенглер заключал, что «из него исходит каждая религия, каждое научное исследование, каждая философия»3. Помню, я надолго застрял на последней строчке. Такая точка зрения на человеческую мотивацию была мне понятна. Может быть, очарование математического доказательства состоит в том, что оно вечно? Тяга, которую мы испытываем к закону природы, связана, возможно, с его вневременным характером. Но что гонит нас, что заставляет жаждать вневременного, искать качества, способные существовать вечно? Возможно, все это исходит из нашего уникального сознания того, что сами мы существуем где угодно, но не вне времени, что наши жизни могут быть какими угодно, но не вечными. Все оказалось созвучно с моими новообретенными мыслями о математике, физике и притягательности вечности и попало точно в цель. Это был подход к человеческой мотивации, бравший начало в правдоподобной реакции на всеобъемлющее признание. Подход, в котором ничего не придумывалось на ходу. Я продолжал размышлять над этим выводом, и мне все больше казалось, что он обещает нечто еще более грандиозное. Наука, как отмечал Шпенглер, — это один из вариантов реакции на знание о нашем неизбежном конце. Другой вариант — религия. Третий — философия. Но в самом деле, стоит ли на этом останавливаться? Определенно не стоит, если верить Отто Ранку, одному из первых учеников Фрейда, завороженному творческим процессом человека. Художник, по оценке Ранка, — это человек, чей «творческий импульс… пытается обратить эфемерную жизнь в личное бессмертие»4. Жан-Поль Сартр пошел еще дальше, заметив, что сама жизнь лишена смысла, «если ты лишился иллюзии бессмертия»5. Таким образом, предположение, прокладывающее себе дорогу через этих и других мыслителей, состоит в том, что значительная часть человеческой культуры — от художественных экспериментов до научных открытий — инициирована размышлениями о конечной природе жизни. Серьезное дело. Кто знал, что увлеченность всем, связанным с математикой и физикой, выльется в мечты о единой теории человеческой цивилизации, движимой плодотворной двойственностью жизни и смерти? Ну, хорошо. Делаю паузу, чтобы предостеречь себя-второкурсника от излишнего энтузиазма. Тем не менее тот восторг, что я тогда почувствовал, оказался не просто преходящим наивным интеллектуальным изумлением. Почти четыре десятилетия миновало с тех пор, а эти темы, нередко бурлившие потихоньку где-то на заднем плане сознания, неизменно остаются со мной. Если моя повседневная работа была связана с разработкой объединенных теорий и изучением космических истоков, то в раздумьях о более масштабном значении научных достижений я поймал себя на том, что раз за разом возвращаюсь к вопросам времени и того ограниченного его количества, которое выделено каждому из нас. Сегодня я, по образованию и темпераменту, скептически отношусь к объяснениям на все случаи жизни — физика буквально усыпана неудачными обобщенными теориями фундаментальных природных взаимодействий; это тем более верно, если мы отваживаемся вступить в сложное царство человеческого поведения. В самом деле, я со временем стал считать, что мое осознание собственного неизбежного конца оказывает значительное влияние на все, что я делаю, но не объясняет это все разом и целиком. Такую оценку, мне кажется, в разной степени разделяют многие. И все же есть одна область, в которой щупальца нашей смертности особенно очевидны. |
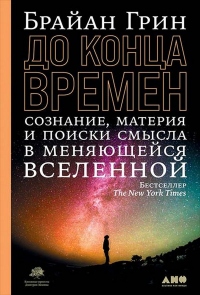
 Вернуться к просмотру книги
Вернуться к просмотру книги
 Перейти к Оглавлению
Перейти к Оглавлению
 © 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно
© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно