
|
||
|
|
||
|
|
Онлайн книга - Река, выходящая из Эдема. Жизнь с точки зрения дарвиниста | Автор книги - Ричард Докинз
Cтраница 23

Те, кто скептически относится к дарвинистскому градуализму, могут прикрываться любым из множества необычных и занимательных явлений природы. Например, меня как-то попросили обосновать постепенную эволюцию живых существ, обитающих в глубоких впадинах Тихого океана, где нет света, а давление воды порой превышает 1000 атмосфер. Вокруг горячих вулканических жерл в глубоких тихоокеанских впадинах возникла целая экосистема. В бактериях там работает совершенно иная, альтернативная биохимия, использующая вулканическое тепло, а вместо кислорода потребляющая серу. Сообщество более крупных организмов зависит в конечном итоге от этих серобактерий, подобно тому как обычная жизнь существует за счет зеленых растений, улавливающих энергию солнца. Все животные, что входят в состав серных экосистем, приходятся родственниками менее странным животным, обитающим в других местах. Как они эволюционировали, через какие промежуточные этапы? Ну что же, аргументация все та же. Для объяснения нам нужен хотя бы один естественный градиент, а по мере погружения в морскую пучину градиентов будет хоть отбавляй. Давление в 1000 атмосфер чудовищно, но оно только количественно превышает 999 атмосфер, которые лишь количественно больше 998, и так далее. Морское дно обеспечивает градиент глубины от 0 до 33 000 футов, со всеми промежуточными значениями. Давление плавно меняется от 1 атмосферы до 1000. Освещенность непрерывно варьирует от яркого дневного света у поверхности до полнейшего мрака, оживляемого лишь редкими скоплениями люминесцентных бактерий да светящимися органами глубоководных рыб. Нет никаких резких перепадов. Для любого уровня давления и темноты, к которому животное уже приспособлено, всегда возможно такое устройство организма, только незначительно отличающееся от уже существующих, которое позволит выжить в условиях на одну морскую сажень глубже, на один люкс темнее. Для любого… Впрочем, эта глава и так уже получилась слишком длинной. Вам известны мои методы, Ватсон. Применяйте их. Глава 4
Божественная функция полезности
Если мой преподобный корреспондент из предыдущей главы обрел свою веру благодаря одной осе, то Чарльз Дарвин утратил свою при помощи другой: «Я не могу убедить себя в том, — писал он, — что благодетельный и всемогущий бог преднамеренно сотворил Ichneumonidae с нарочитой целью, чтобы они питались живым телом гусениц» [13]. На самом деле причины постепенного отхождения Дарвина от религии, которое он не слишком афишировал, дабы не огорчать свою благочестивую супругу Эмму, были сложнее. Его упоминание семейства Ichneumonidae стало афоризмом. Мрачные повадки, о которых он говорит, свойственны и родственникам ихневмонид — роющим осам, встречавшимся нам в предыдущей главе. Самка роющей осы не просто откладывает яйцо в гусеницу, кузнечика или пчелу, чтобы личинке было чем питаться. Согласно наблюдениям Фабра и прочих, она еще и аккуратно вводит жало в каждый ганглий центральной нервной системы жертвы, парализуя ту, но не убивая. Так мясо остается свежим. Неизвестно, действует этот паралич подобно общему наркозу или же, как кураре, только блокирует способность двигаться. Если верно второе, то жертва может быть осведомлена о том, что ее заживо поедают изнутри, не будучи способна пошевелить ни единым мускулом, чтобы что-нибудь предпринять. Выглядит варварской жестокостью, но, как мы увидим, природа не жестока, а всего лишь безжалостно равнодушна. Это один из тех уроков, что даются людям труднее всего. Мы не желаем признавать, что некоторые вещи могут быть не хорошими и не злыми, не жестокими и не добрыми, а просто бесчувственными: безразличными к любым страданиям, лишенными всякой цели. Мы, люди, помешаны на целях. Нам непросто смотреть на что-либо, не задаваясь вопросом, «зачем» это нужно, какие здесь кроются мотивы, какие задачи ставятся. Когда такая одержимость целями принимает болезненные формы, она превращается в паранойю — склонность видеть намеренную враждебность там, где нет ничего, кроме случайного невезения. Но это лишь гипертрофированная форма почти что всеобщего заблуждения. Наблюдая практически за любым объектом или процессом, нам трудно удержаться от вопроса «зачем». Для животного, постоянно окруженного механизмами, произведениями искусства, инструментами и прочими намеренно созданными предметами, желание повсюду видеть цели естественно, тем более что, просыпаясь по утрам, это животное сразу же начинает думать в первую очередь о собственных личных планах. Такие объекты, как автомобиль, консервный нож, вилы или отвертка, придают вопросу «зачем» законную силу. Наши предки-язычники задали бы его и по поводу грома, затмений, камней и ручьев. Сегодня мы гордимся тем, что оставили этот примитивный анимизм позади. Если валун, лежащий посреди речки, помогает нам перебраться через нее, мы рассматриваем такую пользу как случайный бонус, а не как истинное предназначение. Но старинное искушение берет реванш при ударах судьбы (собственно, в самом выражении «удары судьбы» слышится отзвук анимизма): «Почему, ну почему мое дитя стало жертвой рака (землетрясения, урагана)?» А когда речь заходит о происхождении всего сущего и фундаментальных законах физики, то же самое искушение зачастую приобретает приятный привкус, достигая своей кульминации в праздном экзистенциалистском вопросе: «Почему есть нечто, а не ничто?» Я уже сбился со счета, сколько раз после прочитанной мною публичной лекции кто-нибудь из аудитории вставал и заявлял что-то вроде следующего: «Вы, ученые, отлично умеете отвечать на вопрос „как“. Но признайтесь, что, когда дело доходит до вопроса „зачем“, вы бессильны». Именно так высказался с места принц Филипп, герцог Эдинбургский, присутствовавший на выступлении в Виндзоре моего коллеги Питера Эткинса. Подобные речи всегда негласно подразумевают абсолютно никем не доказанную мысль, что, раз наука отвечать на вопросы категории «зачем» неспособна, значит, должна существовать какая-то другая дисциплина, уполномоченная отвечать на них. Разумеется, этот вывод совершенно нелогичен. Боюсь, что доктор Эткинс слишком бегло отделался от Его Королевского Зачем. Сама возможность сформулировать вопрос еще не делает его ни правомерным, ни имеющим смысл. Существует множество предметов, по поводу которых можно спросить, какова их температура или какого они цвета, но вы не станете задавать эти вопросы применительно к ревности или молитве. Аналогичным образом вы вправе задаваться вопросом «зачем» по отношению к крылу велосипеда и дамбе водохранилища Кариба, но как минимум не должны исходить из убеждения, что тот же самый вопрос окажется все так же достоин ответа, будучи задан насчет булыжника, неудачи, Джомолунгмы или Вселенной. Вопросы бывают просто неуместными, как бы искренне ни хотелось нам их задать. Живые существа расположены где-то посередине спектра, на одном конце которого находятся консервный нож и автомобильные дворники, а на другом — камни и Вселенная. В отличие от скал, организмы и составляющие их органы — это объекты, выглядящие так, будто они явно служат какой-то цели. И разумеется, как хорошо известно, очевидная целесообразность устройства живых существ легла в основу классического телеологического аргумента, использовавшегося разными богословами от Фомы Аквинского до Уильяма Пейли и современных «научных» креационистов.
|
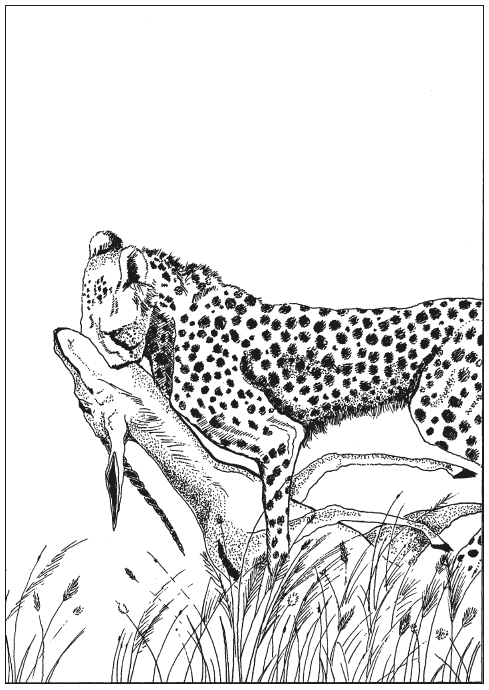
 Вернуться к просмотру книги
Вернуться к просмотру книги
 Перейти к Оглавлению
Перейти к Оглавлению
 Перейти к Примечанию
Перейти к Примечанию
 © 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно
© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно