
|
||
|
|
||
|
|
Онлайн книга - Роксолана. Великолепный век султана Сулеймана | Автор книги - Павел Загребельный
Cтраница 29

Танец не прекращался, поэтому султан какое-то время, стоя, присматривался к тоненьким танцовщицам, но, наверное, стало ему скучно от неразличимого мелькания рук, ног, лиц, оголенных грудей, жадно раскрытых глаз, разомкнутых губ. Он медленно пошел к толпе одалисок, шел словно бы прямо на Гульфем и смотрел, казалось, только на ее черную густую гриву, но неожиданно миновал одалиску, толпа расступилась перед ним, как Красное море перед Моисеем, султан отважно углубился в это море нежности, красоты, вожделения, надежд, отчаяния, его тонкие губы под длинными усами незаметно складывались в улыбку, но кому предназначалась та улыбка, кого ждали счастье, вознесение и взлет? Сулейман бродил среди полуоголенных девичьих тел, как слепой, едва не ощупью, никого не видел, не замечал, снова свернул туда, где была Гульфем, и та горделиво выпятила грудь, эту западню сладострастия, в которую неминуемо должен был попасть султан, но он не дошел до нее, неожиданно взмахнул правой рукой наискосок снизу вверх, кизляр-ага, бросившись на этот взмах, мгновенно вложил в султанову руку кисейный платочек, кисея повисла на какое-то время в пространстве, все глаза летели к платочку и упали вслед за ним, как подстреленные безжалостным стрелком, упали, чтобы увидеть… Бдительно и строго хранит свои тайны гарем, но даже за гаремные стены проник взгляд Сулейманова личного биографа, который не смог удержаться, чтобы не описать событие, с какого началось вознесение никому не ведомой рабыни с Украины: «Однажды, похаживая между черкешенками и грузинками, девушками, чья красота в Царьграде считалась классической, султан внезапно остановился перед нежным и милым лицом. Он опустил взгляд на лицо, поднятое к нему, лицо без видимой красоты, но с искусительной улыбкой, зеленые глаза, затененные длинными ресницами, обращались к нему не только шаловливо, но и дерзко. И он, видевший столько взглядов, полных страсти, муки и унижения, неожиданно поддался тем смеющимся глазам девушки, которую в гареме назвали Хюррем. Платочек, легкий, как паутинка, оставил на нежном плече той, кого весь мир вскоре назовет Роксоланой». Услышать звук скрипок, когда поцелует тебя белозубый и чернокудрый, засмеяться от радости и восторга… Какая девушка не мечтала об этом? А тут тяжелое, как смерть, молчание, и кисейный платочек, неслышно опустившийся на твое голое худенькое плечо, и больше ничего. Разве что завистливые взгляды, и ненависть Гульфем, и еще большая ненависть Махидевран, и нескрываемое удивление всегда невозмутимой валиде. Неужели обычному платочку придают здесь такое значение? Султан отошел в величии и неприступности. Поднялась валиде, поднялись султановы сестры и Махидевран. Евнухи погнали одалисок к их пристанищам, пошла в толпе и Настася-Хюррем. Ничего не изменилось, только был у нее на плече прозрачный платочек, к которому, как заметила Настася, не решались прикоснуться ни одалиски, ни евнухи, ни даже сама валиде, кивнувшая девушке милостиво, когда проходила мимо. Неужели такая сила в лоскуте прозрачной кисеи? Кизляр-ага сопровождал султана к его опочивальне. Там ему было сказано: «Хочу, чтобы мне сегодня вернули платок» [286]. И хотя никто, кроме кизляр-аги, не слышал этих слов, весь гарем знал, что они будут произнесены, только Настася не ведала ничего и весьма удивилась, когда сама валиде пришла к ней в комнату, сопровождаемая старыми женщинами, опытными в одевании и натирании одалисок, и повела девушку за собой, и сама присматривала, как расчесывают, перечесывают ей волосы, как натирают ее мазями и благовониями, как примеряют широченные, безбрежные, невесомые ткани, забрав у Настаси даже ту прозрачную одежду, которая была на ней в зале приемов. Пришел Четырехглазый и повел Настасю наверх по скрипучим деревянным ступенькам. Он был бос, ступал по коврам неслышно, чуть ли не крадучись, босой была и Настася. Куда ее вели – к счастью или к преступлению? Когда она родилась, мышка пробежала через светлицу, и бабка-повитуха сказала, что это добрый знак. Хотя шла по коврам, босые ноги мерзли, и всю ее била дрожь, точно ступала по льду. Шла как на виселицу. Как на убой. Шла или вели? Каждую весну бегали они на Гнилую Липу, чтобы не пропустить начало ледохода. Но река высвобождалась из-под зимнего панциря всегда ночью, и наутро только глыбы темного льда плыли в темной воде. И все вокруг было темным, черным: земля, деревья, вода. Но чернота какая-то мягкая, словно бы нежная, даже сердце сжималось, и хотелось плакать и смеяться. Цинь-цинь, синичка! Когда кизляр-ага ввел ее в огромную полутемную ложницу, всю в тяжелых, расшитых золотом тканях, в коврах, в дурманящих ароматах, расплывавшихся из больших бронзовых курильниц, она засмеялась громко, дерзко. Это был смех испуга и отчаяния (ох, как же она замерзла!), но никто не уловил этого, потому что для кизляр-аги смех нечестивой прозвучал оскорблением его султанского величества, а Сулейману тот серебряный звон наполнил хмурую душу такой щедростью, эхо которой будет звучать еще много лет, на расстояния немереные и непредвиденные. Он прочитал первую суру Корана: «Во имя Аллаха, милостивого и милосердного! Хвала Аллаху, Господу миров милостивому, милосердному, царю в день суда! Тебе мы поклоняемся и просим помочь! Веди нас по дороге прямой, по дороге тех, которых ты облагодетельствовал, – не тех, которые находятся под гневом, и не заблудших». Кизляр-ага ловко и умело сдернул с Настаси все те широкие ткани и на голые плечи накинул ей султанскую прозрачную кисею, шепнув сурово: – Отдай падишаху его платок! И исчез, оставляя девушку с глазу на глаз с чужим для нее мужчиной. Султан полулежал теперь на широченном, высоком ложе, на трех тюфяках, положенных один на другой, два нижних набиты ватой, верхний – пухом, лежал на простынях из тонкого полотна, со множеством подушек, подложенных под бока, под плечи и под голову, все в зеленых тонах – цвет османов. Султан, «опираясь на зеленые подушки и прекрасные ковры», смотрел на обнаженную Настасю (ибо что та кисея!) так неотрывно, что она замечала только его взгляд и поначалу даже не поняла, что на нем нет его ужасающего тюрбана. – Подойди! – велел он. Голос у него был приглушенный, говорил он нехотя. Лишь теперь она заметила, что на султане нет тюрбана. Голова у него была продолговатая, как дыня. Настася чуть не засмеялась. Но было так холодно, что она не в состоянии была даже сделать гримасу, лишь дрожала всем телом. 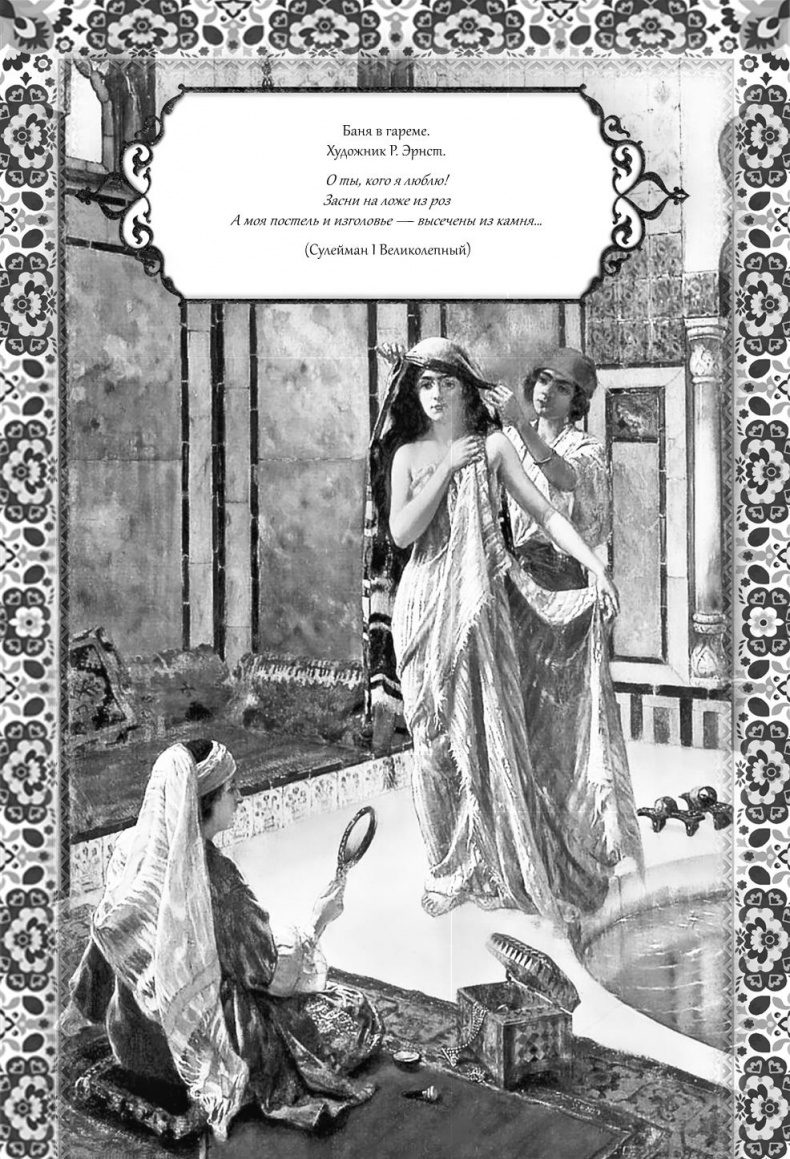
|
 Вернуться к просмотру книги
Вернуться к просмотру книги
 Перейти к Оглавлению
Перейти к Оглавлению
 Перейти к Примечанию
Перейти к Примечанию
 © 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно
© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно