
|
||
|
|
||
|
|
Онлайн книга - Роксолана. Великолепный век султана Сулеймана | Автор книги - Павел Загребельный
Cтраница 166

Немногословный, грозно насупленные брови, зычный голос, жилистое тело, которое не знает усталости, доведенное до невероятных пределов умение владеть любым оружием, выносливость в походах, в обжорстве, в попойках, подвиги на любовном ложе, где красавицы заламывали руки от отчаяния, что ночь не длится полгода, – казалось бы, Мехмед Длинный должен был гордиться тем, что был своеобразным эталоном османской доблести, а тем временем он презирал человеческую природу и породу так откровенно, будто это презрение распространял и на самого себя. Разумеется, к шахзаде Мехмеду молодой визирь относился с надлежащей почтительностью, был его тенью, твердым намерением, обнаженной саблей, карающей рукой. Оба назывались Мехмедами – шахзаде и его визирь. Один – повелитель, другой – его слуга. Но хотя Длинный считался слугой султанского сына, тот вскоре стал словно бы его эхом, бледным повторением, бессильным подражателем, гнался за своим визирем и никогда не мог догнать, имел над Длинным преимущество рождения и положения, но зато не хватало ему обыкновенных возможностей, которые может дать человеку только природа и которые не приобретешь ни за какие сокровища. Над Мехмедом [208] от рождения тяготело убеждение, что он наследник трона и потому должен вырасти грозным и могучим, как султан Сулейман. О Мустафе не думал, надеялся, что какие-то силы, небесные или земные, непременно удалят, устранят того, освободят и очистят дорогу к престолу для него, Мехмеда, ибо он – наследник. Раб своей мысли с самого детства. Зачатый в насилии, родился хилым, тщедушным телом, не тело, а всхлип. Рос любимцем султана и султанши, о сыновьях говорили: «Сыновья», называли их по именам, только Мехмеда всегда «наш Мемиш». За ним был самый горячий и самый заботливый уход. Учителя, врачи, имамы, советчики, астрологи и знахари окружали маленького Мехмеда, но все равно шахзаде рос хилым, и хотя похож был на Сулеймана лицом и фигурой, но это было лишь бледное и жалкое отражение султана, который тоже, как известно, не отличался чрезмерной силой. Характер у Мехмеда тоже был далек от совершенства, настроения менялись у него непостижимыми скачками, крайностями, он мог быть то чрезмерно добрым, то злым до жестокости, минуты прозрений уступали место целым дням тяжкого душевного упадка. Но более всего докучали Мехмеду телесные недуги: так, будто сбывалась именно на нем горькая истина, что дьявол, избрав себе жертву, забирает у нее не только душу, но и тело, зная, что с телом забирает все. Но в этом хилом теле жил железный дух османов. Мехмед чувствовал, как уже от рождения близки к смерти он и его братья только потому, что принадлежали к поросли османов, над которой нависал бесчеловечный закон Фатиха. Кроме того, ему досталось еще и хлипкое тело. Спасение видел лишь в бегстве от своей немочи, в презрении к плоти, в закалке тела, в непокорности судьбе, в преодолении слабости. Не давать себе передышки, мчаться вперед и вперед, задыхаясь, высекая искры, как кони пророка: «Клянусь мчащимися, задыхаясь, и выбивающими искры…» Он – наследник. Империя будет отдана ему, людские судьбы и жизнь, так разве же не властен он над жизнью собственной? Обрадовался безмерно, получив себе помощника, приспешника, слугу и поверенного в лице Мехмеда Соколлу. Жили как звери, как хищники, как разбойники и грабители. Шахзаде рвался на войну, но войны для него не было, зато мог заменить ее охотой. Все равно убийства, кровь, погоня, преследование, изнеможение, безбрежность просторов. Никаких удобств, простота, грубая пища, спать на камнях, подложив ладонь под щеку, греться у костров, пропитаться собственными нечистотами, слышать вокруг проклятия и брань и самому браниться и проклинать, видеть зеленую зарю над головой, мокнуть под надоедливыми дождями – вот твоя жизнь, потому что ты наследник трона, ты наследник! Во дворце не знал гарема, все время проводил среди соколов и беркутов, любил обедать с янычарами, почтительно кланяясь котлу с пловом, потому что котел у янычар считался наивысшим божеством. Еще хотел, чтобы его боялись. Пять сыновей росли у султана, и все были неодинаковы и неодинаковые имели желания. Мустафа хотел, чтобы его обожали, Мехмед – чтобы боялись. Селиму было все равно. Был то гордым, то приветливым, то празднословным, то лентяем, а более всего пьяницей и развратником уже с четырнадцати лет. Баязид был просто добрым и страшно непоседливым. Джихангир отдал бы все, лишь бы только его не тревожили и не мешали мечтать. Мехмед знал, что султана должны бояться. А он наследник, поэтому должен был позаботиться, чтобы все боялись также и его. Но не было у него для этого времени, занятого состязанием с телесной немощью, и потому все откладывал свое намерение стать жестоким, как султан Селим, как великий Фатих или хотя бы как его визирь Мехмед-паша Соколлу. К тому же, хотя и считал себя наследником, начинал тревожиться упорным молчанием султана Сулеймана, который не называл своего преемника. И только в тот день, когда в Эдирне пришел султанский фирман о переводе шахзаде Мехмеда с его двором в Манису, старший сын Роксоланы понял: свершилось! Теперь имел под своей властью целую провинцию Сарухан, словно бы маленькую империю. Стамбул лежал в нескольких днях конной езды: только приготовься надлежащим образом, будь тверд духом и телом, прежде всего телом, потому что оно твой величайший враг, а ты ведь – наследник! Слал гонцов к султанше-матери. Хотел знать о каждом прожитом ею дне. Видел себя уже султаном, а мать свою, смеющуюся и мудрую хасеки, – всемогущей валиде, повелительницей Топкапы, первейшей опорой молодого падишаха. Любил ее так же искренне и горячо, как ненавидел свое квелое тело. Окружал себя дервишами, святыми людьми, знахарями, мошенниками. Шли отовсюду, наплывали, будто темные тучи на ясное небо, рождались из манящих необозримых просторов Азии, из Персии и Индии, из Египта и Сирии, возникали ниоткуда. Продавали впавшему в отчаяние шахзаде лекарства, амулеты, без конца что-то советовали, колдовали, пророчили ему судьбу. Одни говорили – пить вино, другие запрещали, одни советовали есть баранину, другие – лишь дичь. Были такие, которые начисто отбрасывали природу, усматривая спасение в деянии сил оккультных, таинственных и всесильных. Дескать, тот, кто не боится кровопролития, способен при помощи оккультных сил достичь размеров слона и растоптать людей, как былинки. Мехмед не верил никому, но никого и не должен был спрашивать, кроме своего визиря, который даже спал под порогом своего шахзаде. Соколлу только чертыхался:
|
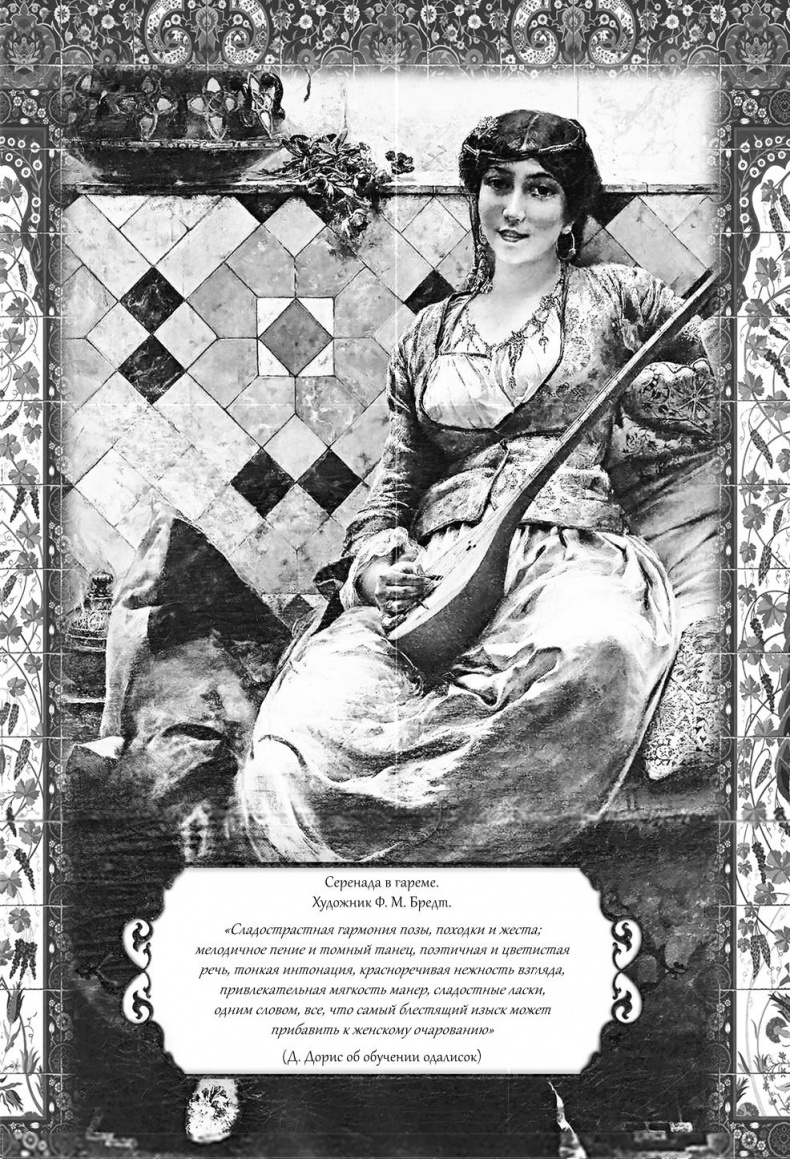
 Вернуться к просмотру книги
Вернуться к просмотру книги
 Перейти к Оглавлению
Перейти к Оглавлению
 Перейти к Примечанию
Перейти к Примечанию
 © 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно
© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно