|
|
Онлайн книга - Все не так | Автор книги - Наталья Черемина
Cтраница 1

Стерпится — слюбится Санька Звонарева с детства слыла хронической неудачницей и, судя по всему, готовилась продолжить династию матерей-одиночек, к коей принадлежала. Бабка, Вера Устиновна, когда-то вовремя распознала в своем первом муже безответственного сластолюбца, а во втором — меркантильного хитреца. Она четко усвоила, что мужчины бывают именно этих двух типов, а самые худшие представители мужского рода объединяют в себе черты обоих. Именно таким — безответственным сластолюбцем и меркантильным хитрецом в одном лице — был муж ее дочери Любы, отец Саньки. Люба была бунтаркой. Она не пожелала учиться на педагога, как хотела мама, а пошла работать в ателье закройщицей. Мать благородного семейства едва не хватил удар, когда доченька притащила домой юного Виктора и объявила, что это отец ее будущего ребенка и что он будет здесь жить. Свадьбу справили скромную: денег катастрофически не хватало, а курсант военно-морского училища Виктор был гол как сокол. Приехавшие из какой-то немыслимо дальней деревни родители Виктора оказались еще беднее Веры Устиновны. Несмотря ни на что, молодые были вполне счастливы — в первые месяцы совместной жизни. А потом родилась маленькая Санечка, и выяснилось, что Виктор не только меркантильный сластолюбец, но и редкостный хам: позволяет себе перечить Вере Устиновне в ее собственном доме и даже ставит под сомнение правильность ее воспитания! Мама постаралась объяснить своей неразумной дочери всю ошибочность ее отношений с Виктором. Зятю же она со всей полнотой дала понять, насколько он лишний и чужеродный элемент в этом доме. Призвав в союзники всю родню, Вера Устиновна выдавила-таки эту мужскую заразу из своего священного гнезда, аккурат когда малышке исполнилось полгода. Люба осталась: она была бунтаркой, но не до такой степени, чтобы оставить отчий — то есть материнский — дом. Правда, спустя год ей удалось каким-то хитрым и не совсем благородным путем получить однокомнатную квартиру, и она с облегчением покинула его, чем крайне разочаровала своих родных. Александру она сдала в ясли, сама снова пошла работать и стала вести такой же замкнутый образ жизни, как и раньше: просто по-другому не умела. Но свобода есть свобода, и некоторые качественные отличия все же появились: она следила за собой, неплохо одевалась, иногда ходила в гости и даже изредка приводила домой мужчин. Дочку Люба старалась отдавать бабушке как можно реже. Берегла ее, хотела другой жизни? Это было безотчетное стремление, просто инстинкт. Присмотреть за ребенком она предпочитала попросить соседей, родную же бабушку — только в самом крайнем случае. Всякий раз, когда Саню приводили, Вера Устиновна с неудовольствием отмечала все возрастающие пробелы в воспитании девочки. Дабы взять контроль в свои руки, она рассказывала Александре семейные хроники, морализаторская суть которых сводилась к почитанию матриарха и неприятию любых мужских форм. Санька хлопала глазами и набивала рот очередной порцией восхитительного домашнего пирога. Маму Санька обожала до благоговения, несмотря на то, что та не была с ней особо ласкова. В те редкие моменты, когда мама ненадолго приобнимала ее или гладила по голове, Санька жмурилась, как котенок, и замирала, не дыша, стремясь как можно дольше не спугнуть ее рассеянные руки. Мать была неулыбчивой, немногословной и строгой, иногда даже суровой. За провинности не гнушалась наказать и поркой, выбирая для этого самые безжалостные инструменты, например скакалку. Вместе с тем она не была садисткой, наказывала всегда за дело. Чем же ее воспитание отличалось от бабкиного, от которого Санька так упорно ограждалась? Мать не читала нотаций, не боялась показаться слабой и давала дочке свободу. Например, уже лет с четырех Санька гуляла одна во дворе — правда, за малейшее опоздание бывала беспощадно бита. Санька общалась с отцом, хотя мать в свое время уверовала, что тот подлец. Сама она с Виктором держалась крайне холодно, но позволяла ему иногда брать дочку на выходные и даже знакомить ее со своей новой семьей (он недолго убивался после развода и вскоре нашел новую жену, которая быстро, одну за другой, родила ему еще двух дочек). Санька обожала папку, его нечастые визиты с горами подарков, еще более редкие походы в зоопарк и игры с сестрами. Папка был добрый и веселый, он всегда дарил таких шикарных кукол, а живописные Коробки из-под заграничного печенья и конфет она хранила годами. Может быть, поэтому мужененавистничество Санькиной семьи и не прижилось в ней — отец все-таки был, хоть и приходящий. Окончив школу, Санька подалась в училище. С ее тройками и полным отсутствием каких-либо связей на большее претендовать было глупо. Несмотря на патологическую лень, она с отличием сдала экзамены на повара-кондитера, но по специальности трудиться не пошла, а откликнулась на отцовское приглашение поработать у него. Он на пару со своей второй женой Ларисой Сергеевной как раз открыл палатку на автовокзале, в бойком месте, где продавалось все от сигарет до детских игрушек. Санька с радостью согласилась. Мало того, что зарплата получалась даже больше, чем у мамки в ателье, — отец платил щедрые премии и даже разрешал брать деньги из кассы на день. Александра подкупила себе обувки-одежки, стала платить за квартиру и покупать продукты домой. Мать теперь дважды думала, прежде чем поднимать на нее голос. Молодая продавщица в бойком месте — фигура заметная. Окрестные продавцы, вокзальные кассиры, водители автобусов, контролеры и таксисты всегда точно знали, во сколько Санька закрылась на обед, сколько пирожных купила, кто и во сколько к ней заходил. Внезапно переместившись из унылой квартиры, где ее собеседником был толстый белый кот Филя Третий, в гущу автовокзальной жизни, Санька сначала растерялась, потом освоилась и даже втянулась. К ней зачастили одни и те же мужские лица, в основном местные работники. Конечно, это было все не то: ну какие ухажеры из этих водил и ларечников? Те, что поприличнее в общении, мордой не вышли или слишком старые; те, что помоложе и посмазливее, — хамы и тупицы. Но все равно приятно, как ни крути, что за день в окошечко заглядывают пять-шесть лиц с умильными улыбками и глупыми предложениями. «А я ничего, — думала Санька, крутясь перед большим зеркалом. — Конечно, если б ноги подлиннее, как у Машки… Зато у меня талия тоньше и совсем нет живота!» В один дождливый сентябрьский вечер Санька рассчитала одинокого покупателя, посидела немного, зевнула, посмотрела на будильник. До закрытия еще полтора часа, ну ладно, час, в такую непогоду можно и пораньше. Только бы дождаться последнего автобуса, авось чего-нибудь и купят. Хотя вряд ли. А больше и не будет никаких автобусов, только ночью. Санька еще раз зевнула, взяла карандаш, папины черновики, которых он притащил целую стопку, и принялась рисовать. Темы ее рисунков нисколько не изменились за последние десять лет. Это по-прежнему были лошади, колдовские леса, озера с лунными дорожками, прекрасные дикарки и стройные юноши в доспехах и без оных. Да и техника особо не изменилась, разве что рука чуть тверже стала. За окном бесновался ливень, а внутри жарко грел калорифер и мирно тикали часики. Санька тщательно выписывала лицо мужчины. Вернее, нижнюю половину лица, верхнюю закрывал капюшон. Про себя она обозвала мужчину «монах-воин», от этого сочетания сладко замирало сердце. Полюбовавшись наброском, она принялась старательно накладывать тени вокруг тонкого носа, резче обозначила ноздри, заставила их трепетать. Наметила легкие складочки в углах волевого, сжатого рта. Подумала и легкими штрихами обозначила ямочку на твердом, но изящном подбородке. Краем глаза уловила свет фар в окне. «Ага, последний пришел», — отметила Санька без особого энтузиазма и снова углубилась в изучение нарисованного лица. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

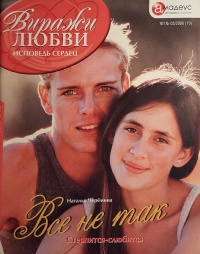
 Вернуться к просмотру книги
Вернуться к просмотру книги
 © 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно
© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно