
|
||
|
|
||
|
|
Онлайн книга - Лугару | Автор книги - Ирина Лобусова
Cтраница 1

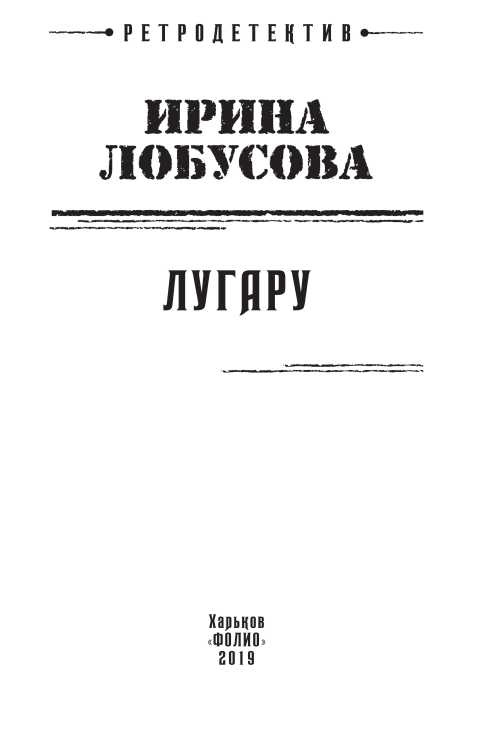  ГЛАВА 1 Одесса, шестой километр Овидиопольской дороги, конец мая 1937 года. Впереди показались крыши домов. Они выступали из-за деревьев в каком-то просто обжигающем, неприлично ярком, не нужном ему сейчас, свете луны, заливающем щедро окрестности растопленным серебром. Это серебро, как на фотопленке, проявляло очертания крыш — казалось, что они находятся совсем близко. Там — поселок. Значит, осталось еще немного. Он закусил губу. Капли крови потекли по подбородку, обжигая остывшую кожу непривычным теплом, но он почти не чувствовал боли. Что была эта боль по сравнению с окровавленными лоскутами его спины, с изувеченными руками и ногами? Там, давно, в прошлом, меньше месяца назад — дней, тянувшихся для него больше, чем десятки лет, боль была подобна слепящему раскаленному фонарю, терзающему его мозг невыносимыми, болезненными ожогами. Это было похоже на котлован, где его варили, и по ночам, впившись зубами во все, что он мог найти на каменном полу камеры, он даже плакал от боли, в темноте скрывая этот невыносимый позор. Смешно вспомнить! Тогда на его спине еще оставались клочки целой кожи, а на руках и ногах — целые, не сломанные, не обожженные пальцы, и с ногтями, под которые еще не засовывали раскаленные иголки, выворачивая наизнанку и ногти, и все, что оставалось еще живым… Тогда он наивно думал, что это боль. Но потом она как-то трансформировалась, словно съежилась до объема его вселенной, исключительно его мира, в котором больше не было мест для других миров. И он… сжился с ней, стал с ней одним целым, приняв эти ослепительно яркие точки алых сполохов, все еще порой тревожащие нервные окончания его измученного тела… Так было. До тех пор, пока до крыш домов поселка — людского жилья — не оставалось нескольких коротких шагов. Стоящих больше, чем годы обычных человеческих жизней. Теперь, разглядев его смутные очертания за сельской грунтовкой, в темноте, он вдруг воспрял духом от этой огромной, долго сдерживаемой боли, отбросил ее. Боль стала… его крыльями к свободе. Крыльями, позволяющими взлететь над всем, оставив под собой мир, в котором бетонные блоки стен с колючей проволокой, к которой был подведен ток высокого напряжения, оказались всего лишь бездной, трещиной в земной коре, уводящей вглубь, к самым потаенным глубинам боли и страха, о которых и понятия не имел Данте, описывая свой ад… Мощный луч прожектора вдруг резко полоснул по земле, высветил полоску пожухлой травы у обочины грунтовой дороги и, увеличиваясь в размерах, как глаз хищника, принялся шарить вокруг, рыская в поисках добычи — окровавленного куска мяса, в котором никто больше не признал бы человека. Прожектор в глухой ночи, вопреки осторожности, тщательно соблюдаемой под грифом государственной тайны, включенный на всю мощь, означал: что-то произошло… Ночью свет прожектора был запрещен — так же, как и собачий лай. Чтобы не тревожить жителей близлежащих сел, собак по ночам запирали в вольеры. Но то, что прожектор включили, означало: руководство потеряло контроль, и это беда. Прожектор словно искал добычу, словно намеревался поглотить и заживо спалить своим оглушающим светом. Это его искали. К счастью, он точно знал, что сирены были запрещены. Но и без них слепящий прожектор в ночной темноте, исполняющий безумный танец по почти открытому полю, внушал чувство такого ужаса, по сравнению с которым все остальное казалось детским лепетом. Он бросился на землю, быстро скатился в придорожную канаву и так застыл, вдавившись лицом в жирную, чуть влажную землю. От нее шел сладковатый запах тления, словно там, под этой землей, разлагалась живая плоть. Он поневоле подумал, что там могло быть на самом деле — наверняка траншея: рытвина в этом месте означала только то, что здесь закапывали трупы. И закапывали плохо, чуть присыпая землей, оттого так сильно чувствовался сладковатый, приторный запах. Странно, но он вдруг поймал себя на том, что этот запах, ужасающий в нормальных условиях, совсем не внушает ему отвращения. Ноздри его сладко затрепетали, стараясь уловить малейшие оттенки, мельчайшие нюансы этого запаха. А из груди вдруг вырвался какой-то странный всхлип, напоминающий то ли рычание, то ли стон. Он лежал и вдыхал этот аромат почти разрытой могилы, а прожектор все бился и бился по земле, словно пытаясь преодолеть пределы возможного, расширить свои границы. Когда он понял, что прожектор не достает до траншеи, он едва сдержал крик. Спасен! Несколько сантиметров темноты означали спасение. И, все еще прижимаясь лицом к земле, он медленно пополз вперед, стараясь достичь грунтовой дороги, куда точно не попадал свет прожектора. И вдруг свет исчез. Руководство пришло в себя и вырубило панику. Это означало, что его собирались искать по-другому. Он ни секунды не сомневался в том, что за ним будет погоня. Он знал это в тот самый момент, когда сквозь обрушившийся прямо на него тоннель подкопа, с трудом, можно сказать, чудом выбрался в поле. Буквально вывалился, оставляя в земле кровавые следы, задыхаясь от неистовой жажды свободы, смешанной с таким мощным отчаянием, что за его плечами словно крыльями распускались новые, невозможные жизни, заставляя дышать снова и снова и бежать снова и снова. Прожектор, погаснув в этой долгой ночи, означал шанс, за который стоило отдать всю свою кожу. Кое-как поднявшись на ноги, он как мог быстро зашкандыбал по рытвинам и колдобинам, больно ударяясь об острые камни земли распухшими ногами. Но что это? Он вдруг увидел, как крыши домов села стали расплываться, дрожать и словно двоиться, покрываясь какой-то прозрачной дымкой. Что-то происходило с его глазами: он потерял остроту зрения, и очертания предметов теперь казались размытыми, словно их затопили мутной водой. Он поднял руку к глазам, пытаясь протереть их… И вдруг так и застыл, с рукой, вытянутой на весу. Его кожа стала мертвенно-бледной, он это четко увидел. В серебристом свете луны это выглядело ужасающе. Его рука словно была вымазана алебастровой краской такого жуткого оттенка, который не решились бы использовать нигде, даже в захудалой больнице. Этот белый цвет вдруг внушил ему такой ужас, что он, не помня себя, принялся бить и щипать свою руку, пытаясь вызвать прилив крови к коже. Но это не помогло. Его кожа почти потеряла чувствительность — он совсем не чувствовал боли от этих ударов и щипков. А цвет ее не только не покраснел, наоборот — приобретал все более белые оттенки, чем-то похожие на синеватые переливы льда… Его стало знобить. Он почувствовал страшный холод, несмотря на то что начиналось лето и жара уже стояла и по ночам. Тело его стала колотить не поддающаяся контролю дрожь, постепенно переходящая в лихорадку. Он почувствовал, что у него резко повышается температура тела. Его словно окунули в кипяток, и жар заполнял каждую клетку, каждый сантиметр его тела. |
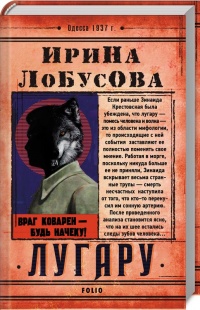
 Вернуться к просмотру книги
Вернуться к просмотру книги
 Перейти к Оглавлению
Перейти к Оглавлению
 © 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно
© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно