
|
||
|
|
||
|
|
Онлайн книга - В глубине ноября | Автор книги - Туве Марика Янссон
Cтраница 18

— Да-да-да, — закивала Филифьонка. Она сунула нос в гостиную и спросила с тревогой: — Как вы себя чувствуете? — Печально, — отвечал Староум. — Так всегда бывает, если в супе пенки, да ещё не дают спокойно позабывать. Он лежал на диване, под грудой одеял, прямо в шляпе. 
— Сколько же вам лет? — осторожно поинтересовалась Филифьонка. — Не дождётесь, не помру, — весело отозвался Староум. — Тебе-то самой сколько лет? Филифьонка исчезла. Во всём доме захлопали двери, сад наполнился криками и стуком шагов. Никто не думал ни о чём, кроме Староума. «Корзинка может быть где угодно», — подумал он даже с некоторым удовольствием. Живот больше не болел. Мюмла зашла в гостиную и присела на край постели. — Слушай, Староум, — сказала она. — Ты так же здоров, как я, и сам прекрасно это знаешь. — Очень даже может быть, — парировал Староум. — Но я не встану, пока мне не устроят праздник! Совсем небольшой праздничек в честь пожилого населения, которое всё ещё не отдало концы! — Или большой праздник для Мюмлы, которая хочет потанцевать, — сказала Мюмла задумчиво. — Ничего подобного! — закричал Староум. — Грандиозное торжество в честь нас с предком! Предок сто лет ничего не праздновал, сидит в шифоньере и грустит. — Думай себе что хочешь, — ухмыльнулась Мюмла. — Нашёл! — закричал снаружи Хемуль. Дверь распахнулась, гостиная наполнилась народом и звуками. — Корзинка была под крыльцом! — кричал Хемуль. — А коньяк — на том берегу реки. — Ручья, — поправил Староум. — Сначала выпью коньяку. Филифьонка налила ему немножко, и все не отрываясь смотрели, как он пьёт. — Примете каждого лекарства по чуть-чуть или какое-то одно? — спросила Филифьонка. — Вообще ничего не приму, — Староум со вздохом откинулся на подушки. — Но не вздумайте снова говорить со мной о том, чего я не желаю слышать. И по-настоящему я не выздоровею, пока мне не устроят праздник… — Снимите с него ботинки, — велел Хемуль. — Киль, ты сними. Так всегда делают, когда болит живот. Хомса помог Староуму развязать шнурки и стянул с него ботинки. И вынул из ботинка смятый клочок бумаги. — Письмо! — закричал Снусмумрик. Он осторожно разгладил бумагу и прочёл: «Ведите себя хорошо и не топите изразцовую печь, там живёт предок. Муми-мама». 
17

Филифьонка не говорила больше о тех, кто живёт в шкафу, она старалась наполнять голову мелкими привычными повседневными мыслями. Но по ночам она слышала эти слабые, едва различимые звуки: кто-то ползал под обоями, быстро перебегал по половицам — а однажды в стене прямо у её изголовья затикал жук-точильщик. Самым приятным за целый день было звонить в гонг и с наступлением темноты выносить на крыльцо ведро. Снусмумрик играл почти каждый вечер, Филифьонка выучила все его песни, но насвистывала их, только когда была уверена, что никто её не слышит. Как-то вечером Филифьонка сидела на краю кровати, стараясь как-нибудь оттянуть отход ко сну. — Ты спишь? — крикнула под дверью Мюмла. Не дожидаясь ответа, она вошла и сообщила: — Мне надо дождевой воды, чтобы вымыть голову. 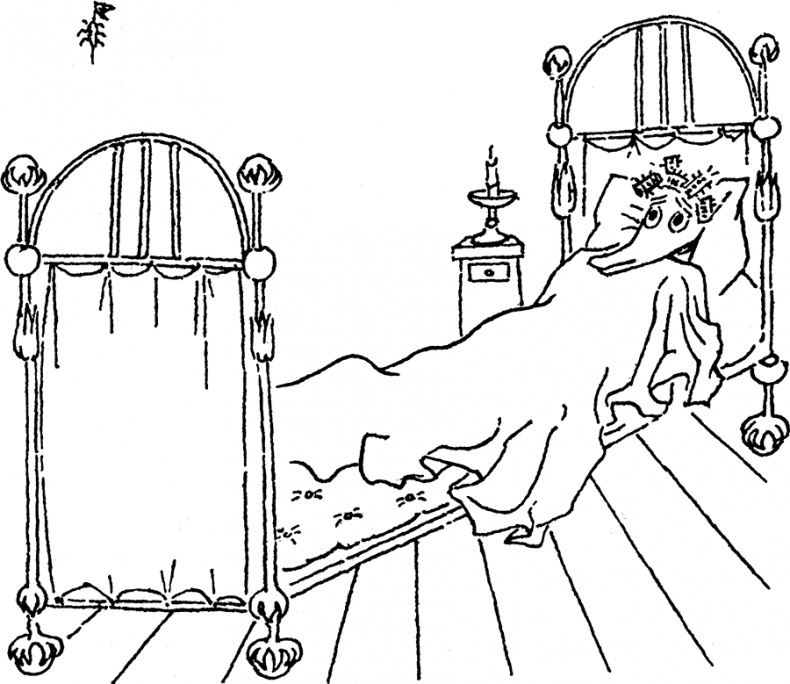
— Вот оно что, — проговорила Филифьонка. — Я бы сказала, что речная ничуть не хуже. Она в среднем ведре. А вот в этом ключевая. Но можешь мыть и дождевой, если тебе так приспичило. Только не наплескай на пол. — Вот теперь ты похожа на саму себя, — заметила Мюмла, ставя воду на огонь. — И тебе так гораздо лучше. Я пойду на праздник с распущенными волосами. — Какой ещё праздник? — резко спросила Филифьонка. — Для Староума, — ответила Мюмла. — Ты что, не знаешь, что завтра мы устраиваем на кухне праздник? — Вот это новости! — воскликнула Филифьонка. — Ну разумеется! Именно так и поступают те, кто оказался заперт в одном доме с малознакомой компанией, или выброшен на необитаемый остров, или захвачен ливнем, — они устраивают вечеринку, и посреди вечеринки вдруг гаснет свет, а когда снова зажигается, в доме становится На Одного Гостя Меньше… Мюмла с интересом воззрилась на Филифьонку: — Иногда ты меня удивляешь. А что, неплохая идея. А потом они будут исчезать по одному, и в конце концов только кошка останется умываться на их могиле! Филифьонка вздрогнула. — По-моему, вода уже согрелась, — заметила она. — И у нас нет кошки. — Тоже мне проблема, — ухмыльнулась Мюмла. — Ты просто пофантазируй как следует — и будет тебе кошка. Она сняла кастрюлю с огня и толкнула локтем дверь. — Спокойной ночи, — сказала Мюмла. — Не забудь уложить волосы. Кстати, Хемуль сказал, что кухню должна украсить ты, потому что у тебя художественный вкус. — И она ушла, ловко закрыв дверь ногой. У Филифьонки громко заколотилось сердце. Художественный вкус. Хемуль сказал, что у неё есть художественный вкус! Вкус — какое удивительное слово. Она повторила его несколько раз про себя. В ночи Филифьонка взяла из кухни лампу и пошла искать в мамином шифоньере коробку с украшениями. Коробка с бумажными фонариками и ленточками лежала на своём обычном месте в правом верхнем углу — всё вперемешку и заляпано стеарином. Пасхальные украшения, старая обёрточная бумага с подписями: «Любимому папе», «С днём рождения, милый Хемуль», «Дорогой малышке Мю — поздравляю и люблю», «Гафсе, с наилучшими пожеланиями». Очевидно, назвать Гафсу дорогой и любимой ни у кого язык не повернулся. Наконец нашлись бумажные гирлянды. Филифьонка принесла всё это в кухню и разложила на шкафчике. Взбила волосы и накрутила на папильотки и всё время насвистывала, очень чисто и гораздо художественнее, чем сама могла предположить. Хомса Киль слышал разговоры о празднике — или, как говорил Хемуль, о домашней вечеринке. Он знал, что каждый должен приготовить номер, и подозревал, что на празднике положено болтать и веселиться. Но веселиться ему не хотелось. Ему хотелось посидеть в одиночестве и разобраться, что же так разозлило его тогда на воскресном обеде. Хомсу напугало то, что внутри него обнаружился какой-то другой, незнакомый хомса, который, возможно, ещё вернётся и снова опозорит его перед остальными. Хемуль после того воскресенья строил свой дом в одиночестве. Он никогда больше не звал хомсу помогать. Обоим было неловко.
|
 Вернуться к просмотру книги
Вернуться к просмотру книги
 Перейти к Оглавлению
Перейти к Оглавлению
 Перейти к Примечанию
Перейти к Примечанию
 © 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно
© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно