
|
||
|
|
||
|
|
Онлайн книга - AMERICAN’ец. Жизнь и удивительные приключения авантюриста графа Фёдора Ивановича Толстого | Автор книги - Дмитрий Миропольский
Cтраница 40

От унылых мыслей Фёдора Петровича отвлекло появление кузена, который вошёл со всегдашними шуточками: — Что, братец, ещё до моряне добрался, а уже морская болезнь приключилась? Фёдор Петрович и правда вид имел неважный. — На ловца и зверь, — сказал он. — Как раз тебя собирался проведать на гауптвахте. Ты какими судьбами здесь? Вместо ответа кузен схватил со стола Пашенькин портрет и, встав у окна, при свете дня разглядывал тончайшую работу. Насладившись, Фёдор Иванович убрал миниатюру за пазуху, ближе к сердцу, и уважительно произнёс: — Ну, Федька! Знал я, что ты талант. Вот же поцеловал господь в темечко! Как живая получилась, право слово. Теперь я твой должник. Фёдор Петрович вздохнул. — Пустое. Меня завтра на корабле ждут, и прости-прощай. Может, не свидимся больше. — А вот это ты брось, так не годится! — возмутился кузен. — У тебя вино есть? Давай-ка, братец, посошок выпьем. За первой бутылкой вина последовала вторая, потому как Фёдор Петрович в затворничестве своём ничего не знал ни про вчерашний полёт Фёдора Ивановича, ни про нынешнюю дуэль. Кузен принялся с жаром пересказывать свои приключения, и Фёдор Петрович на время думать забыл о том, что ждёт его завтра: ближайшие перспективы Фёдора Ивановича выглядели много более мрачными. — Да уж, — соглашался тот, — теперь куда ни кинь, всюду клин. Как припомнят мне всё разом… Поди, до седых волос в крепость какую-нибудь дальнюю упекут… или ещё чего похуже… за Нарышкина-то с Дризеном… Фёдор Иванович откупорил третью бутылку. — И что ж ты на рожон лезешь, а?! — всплеснул руками Фёдор Петрович. — Вот посмотри на меня. Мы же одна кровь! Ты Фёдор Толстой и я Фёдор Толстой. Только про тебя шум по всей столице, а обо мне молчок. Я никого не обидел, никому слова дурного не сказал, живу себе спокойно… — Ага, — хмыкнул кузен, снова наполняя стаканы, — и потому один Фёдор Толстой будет завтра на волнах качаться, а другой, того гляди, на виселице. Фёдор Петрович в ужасе посмотрел на кузена, трижды перекрестился и залпом выпил вино. — Господь с тобой, Феденька, — сказал он, переведя дух, — даже думать об этом не моги! Когда всё так плохо, бежать тебе надо. — От себя не убежишь, — резонно возразил Фёдор Иванович. — А чему быть, того не миновать. Фёдор Петрович вдруг странно глянул на него, утёр набежавшую слезу и нетвёрдой походкой направился к вещам, собранным в дорогу у дверей. — Это мы ещё посмотрим, — приговаривал он, выуживая из жилетного кармана ключик на длинной тонкой цепочке, — миновать или не миновать… Это мы ещё посмотрим… Фёдор Иванович, попивая вино, безучастно наблюдал за манипуляциями кузена. Фёдор Петрович не сразу попал ключиком в замочную скважину походного сундучка, но всё же отпер замок и пошуршал в сундучке бумагами, а найдя, что искал, — радостно взмахнул над головой несколькими сложенными листами. — Вот! Вот спасение твоё! — Скажи на милость, — Фёдор Иванович наморщил лоб, — что ты удумал? Фёдор Петрович шлёпнул листы на стол перед кузеном и сверху припечатал ладонью. — А вот что! Я Фёдор Толстой — и ты Фёдор Толстой, так? Меня от одной мысли про море тошнит, а ты за дальний поход грозился десять лет жизни отдать. Кто из нас двоих Американец? Ну, так и езжай! Меня спасёшь и сам спасёшься. Бумаги все готовы, на корабле ждут. Где граф Толстой? Да вот же он! Резанов нас не знает, Крузенштерн тем более, им сейчас других дел хватает. Пока разберутся, что ты другой Толстой, вы уже далече будете. Чай, назад возвращаться никто не станет. А я тут похлопочу, по родным проеду, поддержкой заручусь. Бог даст, как-нибудь отмолим тебя всем миром. К тому ещё государь участникам похода награды обещал. Небось, не велит казнить, когда вернёшься, велит миловать. Ты ж лицом в грязь не ударишь, я тебя знаю: где горячо — там ты всегда первый. Езжай, езжай заместо меня, братец! Фёдор Иванович выслушал речь, ошарашенно молвил: — Ну, Федька… — и тоже выпил залпом. При золотых руках у Фёдора Петровича была и голова золотая. Такой побег — вроде уже и не бегство, но подвиг! Мало того — ещё и спасение кузена от злой участи. Два Фёдора задымили трубками, сели рядом у стола и заговорщицким тоном в деталях обсудили опасную затею. Фёдор Иванович был совсем не прочь снова сыграть с судьбой и в очередной раз исправить кое-какие ошибки Фортуны. Всё равно семи смертям не бывать, а одной не миновать! — За вещами твоими я заеду, — говорил воодушевлённый Фёдор Петрович. — Тебе в городе показываться не резон, арестуют мигом. Завтра же переберёшься в Кронштадт и сразу на корабль. Оттуда больше ни ногой, а как ветер подует — только тебя и видели! Под конец разговора Фёдор Иванович выдал то, что его мучило. — Ты, братец, Пашеньке объясни всё, как есть, — попросил он, смущённо теребя бакенбарды. — Прощения попроси за меня. Хотел я ей совсем другой судьбы, да только всего на месяц нам хватило счастия. Фёдор Петрович замотал головой: — Нет уж, уволь! Сам объясняйся с цыганкой своей. Хочешь — письмо напиши, я передам. — Не мастер я писать, ты же знаешь, — продолжал увещевать кузена Фёдор Иванович, — и с пистолетами куда ловчее управляюсь, чем с пером. А хоть бы и написал, грамоте она всё равно не умеет. Фёдор Петрович оказался перед скудным выбором: или вслух читать Пашеньке письмо, или самому сказать то, что подобает в таких случаях. — Ладно, — сдался он, — твоя взяла. Велел Фёдор Иванович кузену кроме платья своего, оружия и бумаг ничего у Пашеньки не брать, всё ей оставить. И эту просьбу Фёдор Петрович тоже исполнил, но с цыганкою говорил сухо. Мол, уезжает её барорай надолго, лучше сказать — насовсем. Просит простить, если чем обидел, и свободу Пашеньке даёт полную. Пашенька слушала, теребила на груди золотую подвеску — заморского зверя армадилло, каменьями усыпанного, — и вопросов лишних не задавала. Жив её Фёдор Иванович — и слава богу, чего ещё надо? Улыбнулась на прощанье, пожелала счастливого пути… …а как уехал Фёдор Петрович — у постели осиротевшей слезами изошла. В самом деле порадовалась Пашенька за любимого: цыганке ли не знать цену свободы?! Только Фёдор Иванович на волю вольную вырвался, а ей-то как дальше жить? В чужой табор не возьмут, в свой — возврата нет. Прежде могла Пашенька с генералом уехать, да по молодости сердце своё послушала… И куда ей теперь? Разве что утопиться. Для Петербурга — обычное дело: сигануть в Неву или другую речку, которых в столице без счёта… До утра проплакала Пашенька и с рассветом ушла из квартиры Фёдора Ивановича, чтобы уже больше не возвращаться. Никогда. 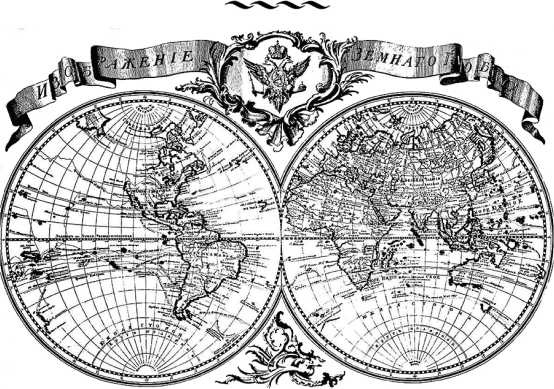 Часть третья Гельсингфорс — Копенгаген — Фальмут — остров Тенерифе — экватор — Бразилия — мыс Горн — остров Нуку-Гива, июль — апрель 1804 года Глава I

|
 Вернуться к просмотру книги
Вернуться к просмотру книги
 Перейти к Оглавлению
Перейти к Оглавлению
 © 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно
© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно