
|
||
|
|
||
|
|
Онлайн книга - История тайной войны в Средние века | Автор книги - Павел Остапенко
Cтраница 34

Кроме того, на дипломатию византийских императоров существенное влияние оказывало мнение «гинекея» — женской половины дворца. Например, Феодора, жена Юстиниана, правившего империей из своего рабочего кабинета, в письме царю Персии Хосрову утверждала (и не без оснований) следующее: «Император ничего не предпринимает, не посоветовавшись со мной». Иноземные посольства, направлявшиеся к Юстиниану, иногда старались заранее выяснить позицию Феодоры по интересующим их вопросам или заручиться ее поддержкой, и только потом представали перед императором. При византийском дворе можно было увидеть послов со всех концов Европы, Азии, Африки. Ведомство иностранных дел, которое находилось под управлением первого министра, выработало сложный порядок приема посольств, специально продуманный, чтобы как можно сильнее поразить воображение, выставить в самом выгодном свете мощь Византии и не дать послам увидеть или услышать слишком много, нащупать слабые стороны империи. Послов встречали на границе и под видом почетной стражи приставляли к ним соглядатаев. После случаев, когда послы захватывали врасплох какую-нибудь византийскую крепость, византийское правительство строго ограничило вооруженную свиту посольств. Иногда послов везли в Константинополь самой длинной и неудобной дорогой, уверяя, что это единственный путь. Это делалось с той целью, чтобы внушить варварам, как трудно добраться до столицы, и отбить у них охоту завоевать ее. По прибытии в Константинополь послам отводился особый дворец, который в сущности превращался в тюрьму, так как к послам никого не пускали, а сами они не могли выйти без конвоя. Кроме того, им всячески ограничивали возможность общения с местным населением. Послов старались очаровать и обласкать, чтобы тем легче было обмануть их или склонить к нужным империи решениям. Их водили по Константинополю, показывали великолепные церкви, дворцы, общественные здания. Их приглашали на праздники или даже специально устраивали празднества в их честь. Послов приглашали не только к императору, но и к императрице, а также к важнейшим вельможам. Им показывали военное могущество Константинополя, обращали внимание на неприступность укреплений, толщину городских стен. Перед послами проводили войска, причем для большего эффекта их пропускали по нескольку раз, меняя одежду и вооружение. Наконец, когда ослепленные и подавленные послы уезжали из Константинополя, их провожали трубными звуками и распущенными знаменами. Вся эта мишура и блеск, сопровождавшие прибытие и отъезд каждого иноземного посольства, были важным инструментом внешней политики Византии. Среди прочих, описание приема у византийского императора оставил Лиутпранд, впервые попавший в Константинополь в качестве посла короля Италии Беренгария (900—966). Посол с восхищением описывает необычайную роскошь первой аудиенции у императора. Перед троном василевса стояло золотое дерево, на котором порхали и щебетали золотые птицы. По обеим сторонам трона стояли золотые или, сомневается Лиутпранд, может быть, позолоченные львы, которые били хвостами и рычали. Когда, простершись, по этикету, ниц перед императором, Лиутпранд снова поднял голову, Стены Константинополя он, к своему изумлению, увидел, что трон с сидящим на нем василевсом поднялся до потолка и что на царе уже другая богатая одежда. 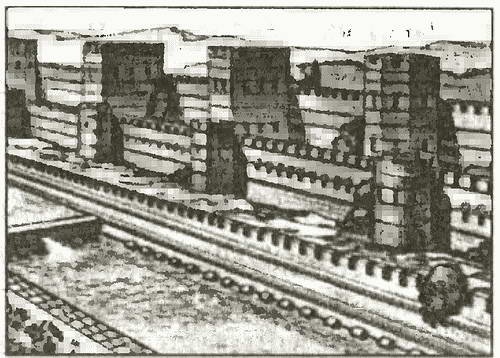
Стены Константинополя Однако византийцы, если это им было нужно, могли не только ошеломить иноземных послов роскошью приема, но и унизить их и отравить им пребывание в Константинополе. Тому же Лиутпранду пришлось побывать в Константинополе еще раз, уже в качестве посла императора Оттона I. [68] Теперь у него было совсем другое настроение… Целью посольства, прибывшего в Константинополь в 968 году, было установление дружественных отношений с Византией. Предполагалось скрепить их браком сына Оттона и византийской принцессы Феофано. Однако на этот раз Лиутпранд остался недоволен приемом и выместил досаду в ироническом или даже карикатурном описании византийской столицы и ее государя. Надо сказать, что прием Лиутпранду на этот раз и действительно был оказан самый неприязненный. Его поместили в особом дворце, где держали как пленника, оставляли часто даже без воды, не позволили ему ехать ко дворцу верхом. Оттона I не называли императором (василевсом), а упорно титуловали королем (реке); германцев же и вовсе называли «варварами». Византийским послам в чужие страны предписывались определенные правила поведения. Посол должен был проявлять приветливость, щедрость, хвалить все, что увидит при чужом дворе, но так, чтобы это не было в укор византийским порядкам, он должен был сообразовываться с обстоятельствами, не навязывая силой того, чего можно добиться иными средствами. Иногда византийскому посольству под видом неважных или формальных поручений — вроде поздравления нового государя со вступлением на престол — давалось задание разведать обстановку при иностранном дворе. Таким образом, дипломатия тесно сочеталась с политической и военной разведкой. Формально послу предписывалось не вмешиваться во внутренние дела государств. На деле это почти никогда не соблюдалось. Византийские послы втайне интриговали при чужих дворах, обычно с ведома своего правительства. О правилах поведения, характерных для византийского посольства, есть интересное свидетельство неизвестного византийского историка, относящееся ко времени императора Феофила (829—842). Во главе посольства, отправлявшегося в Сирию, был поставлен учитель императора Иоанн Грамматик [69]. «Иоанн был исполнен не только гражданского благочиния, — писал византийский историк, — но к тому же владел искусством спора, и поэтому любил его царь и отличал больше всех остальных. Вот поэтому-то и отправил его к правителю Сирии, дав ему много того, чем славится ромейское царство и чем восхищает оно инородное племя, а к этому прибавил еще свыше четырех кентинариев [70] золота». Посольство Иоанна к арабскому халифу Мамуну состоялось в 829—830 годах, то есть сразу же после восшествия на престол Феофила. Дадим опять слово византийскому историку: «Дары были предназначены халифу, а золото — Иоанну для раздач, дабы он и впечатление мог создать, и уважение к себе увеличить. Ведь если посланец сыплет золотом, словно песком, какими несметными богатствами должен удивлять сам пославший! Стараясь всячески возвеличить своего посла, царь дал ему две чаши для умываний, изготовленные из золота и драгоценных камней. Иоанн отправился, а явившись в Багдад, вызвал к себе почтение как глубоким умом и пророческими речами, так и своим богатством и пышностью. Всем, кто его посещал, он дарил немалые суммы — его раздачи были под стать разве что царским. Этим вызвал он восхищение и прославил свое имя. Прибыв же к Мамуну и представ перед ним, он передал слова царя и по окончании речи отправился в покои для отдыха. Желая еще больше поднять славу ромеев, он щедро одаривал каждого, кто по какой-нибудь причине, большой или малой, являлся к нему, и от щедрот своих дарил ему серебряный сосуд, наполненный золотом. Как-то раз во время совместного с варварами пира он велел слугам нарочно потерять одну из упомянутых чаш. Из-за потери сосуда поднялся громкий крик, все варвары, до глубины души восхищенные его красотой, пышностью и великолепием, учинили розыск, прилагая все старания, чтобы обнаружить пропажу. В этот момент Иоанн велел выбросить и вторую чащу, при этом он сказал: «Пусть пропадет и эта», — и прекратил поиски, чем вызвал изумление сарацин. Соревнуясь в щедрости, халиф не пожелал уступить Иоанну и в ответ принес ему дары; тот, однако, ими не прельстился и высыпал их перед сарацином, словно прах. К тому же халиф дал ему и сотню пленных, которых вывел из темницы и вместо тюремного тряпья облачил в роскошные одежды. Щедрость дарующего Иоанн похвалил и оценил, но подарка не принял, сказав, чтобы людей этих они держали на свободе у себя, пока не принесет он им в ответ такого же дара, не приведет им пленных сарацин, а уж тогда возьмет своих соплеменников. Халифа это поразило, и уже не как чужака, а как своего стал он часто призывать к себе Иоанна. Такие знаки внимания он ему оказывал до тех пор, пока торжественно не отправил в Константинополь».
|
 Вернуться к просмотру книги
Вернуться к просмотру книги
 Перейти к Оглавлению
Перейти к Оглавлению
 Перейти к Примечанию
Перейти к Примечанию
 © 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно
© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно