
|
||
|
|
||
|
|
Онлайн книга - Введение в поведение. История наук о том, что движет животными и как их правильно понимать | Автор книги - Борис Жуков
Cтраница 66

Отсюда неизбежно следует еще одна особенность социобиологических трактовок: в них не остается места для неадаптивного поведения – рудиментов былых приемов (вроде «львиного захвата» у кошек – см. главу 4), неадекватного срабатывания инстинктов, наконец, просто ошибок (например, опознания). С точки зрения социобиолога любое регулярно наблюдаемое поведение в конечном счете выгодно – если не самому животному, то тем генам, которые обеспечивают именно такое поведение; если не в данном конкретном случае, то статистически. Скажем, нерест лосося или массовый лет муравьиных самцов и самок привлекает множество хищников, до отвала наедающихся легкодоступной и питательной добычей. Во время хода лососей все бурые медведи, живущие в бассейнах нерестовых рек, выходят на берега и добрых полмесяца кормятся только рыбой и икрой. Но при всей своей прожорливости они не могут сожрать больше лососей, чем вмещают их желудки. Если бы лососи кишели в реках круглый год, медведи могли бы увеличить свою численность. Но размножиться за пару недель звери не могут – да и чем им тогда питаться весь остальной год? Получается, что чем короче сезон нереста, тем меньшую долю всех пришедших на нерест рыб сожрут хищники – и тем, следовательно, выше шансы каждой конкретной рыбы успеть оставить потомство. Естественный отбор не ошибается – он всегда поддерживает поведение, увеличивающее вероятность распространения данных генов, даже если человеку такое поведение кажется глупым и самоубийственным. Часто такой подход и в самом деле позволяет понять, почему в эволюции возникают и сохраняются, казалось бы, невыгодные формы поведения. Например, сойка – птица неглупая, не обиженная ни памятью, ни способностью ориентироваться в пространстве – имеет привычку прятать избыток желудей, большинство которых потом никогда не находит. Но в конечном счете это служит к ее же пользе: зарытые и забытые желуди прорастают, превращаясь в дубы – кормовую базу для будущих поколений соек. Лукавая метафора Тем не менее установка «что ни делает животное – все к лучшему» при одновременном исключении из рассмотрения конкретных поведенческих механизмов в конце концов неизбежно возвращает мысль ученых к натурфилософии XVIII века с ее представлениями о «бесконечно предусмотрительной Природе». Образцом такого способа теоретизирования может служить, например, весьма популярная в социобиологической литературе «теория гандикапа» израильского орнитолога Амоца Захави. Как известно, у самцов многих видов животных имеются признаки, явно не способствующие выживанию их обладателя, такие как хвост самца павлина, огромные рога оленей [118], глаза на длинных стебельках у стебельчатоглазых мух Cyrtodiopsis dalmanni и т. д. Со времен Дарвина возникновение столь неадаптивных признаков принято объяснять половым отбором: подобные украшения привлекают самок, и потому проигрыш в безопасности с лихвой компенсируется репродуктивным успехом. В последние десятилетия прямые полевые эксперименты показали, что по крайней мере в некоторых случаях такое объяснение справедливо: если самцу длиннохвостой вдовушки Euplectes jackstone укоротить его несообразно длинный хвост, он станет гораздо менее привлекателен для самок; если же с помощью клея и чужих перьев надставить хвост дополнительно, любой невзрачный самчишка станет неотразимым [119]. Однако столь же убедительно было показано, что подобные предпочтения самок в значительной мере определяются генетически и, следовательно, находятся под действием естественного отбора. Почему же он не «вразумит» любительниц экстравагантных форм и не привьет им вкус к скромным, но функциональным нарядам кавалеров? Захави предположил, что выбор самок имеет глубокий смысл: если уж самец с таким хвостом (рогами, глазными стебельками и т. д.) ухитрился дожить до брачного возраста – значит, какие-то не менее важные, но скрытые, не воспринимаемые непосредственно достоинства (например, устойчивость к холоду, жаре, болезням, эффективность утилизации пищи и т. д.) у него, скорее всего, намного выше среднего. А значит, и дети от такого отца будут самыми лучшими – особенно дочери, у которых эти хвосты-рога в любом случае не вырастут и которым, следовательно, не придется тратить на них ресурсы. Получается, что гипертрофированные структуры – это фора, которую их обладатели дают другим самцам в борьбе за существование. И именно по этой форе самки опознают в них сильных игроков и стремятся заполучить их в мужья. Отсюда и название – «теория гандикапа», то есть форы. 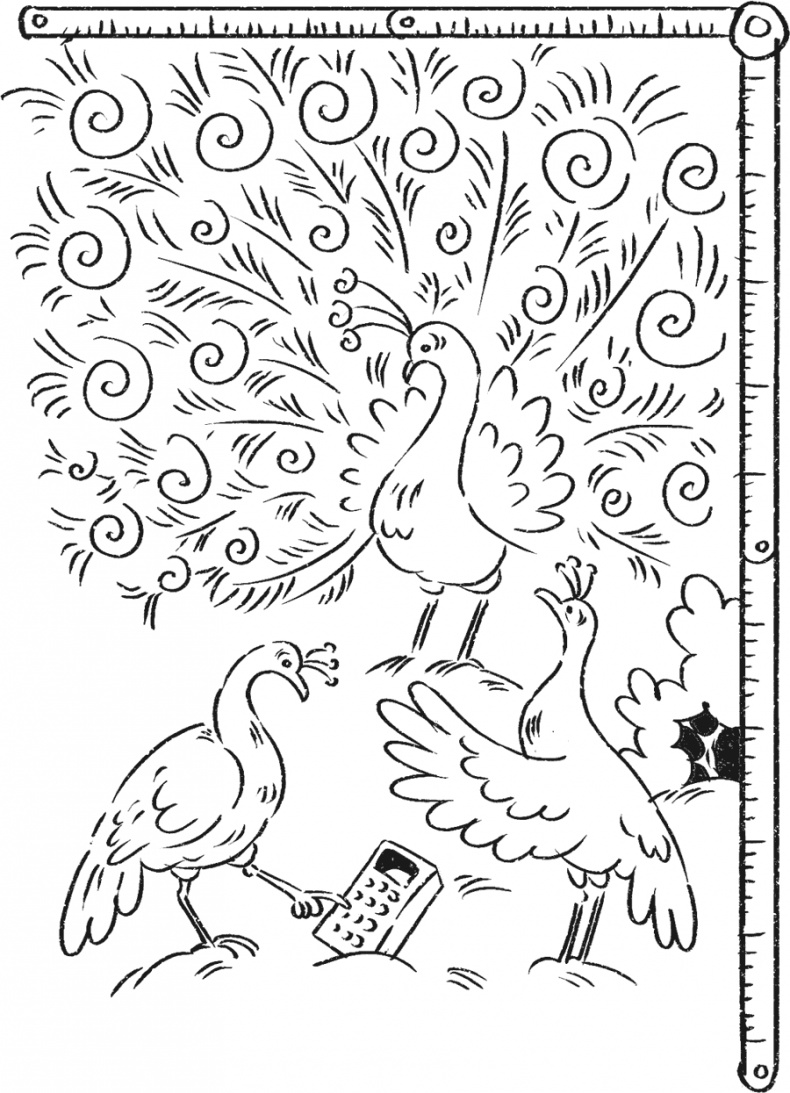
Звучит вроде бы убедительно, но неужели пава при виде павлина с особенно роскошным хвостом проделывает в уме все эти логические выкладки? Любой социобиолог с негодованием отвергнет такое предположение. «Чтобы сделать подобные определения более ясными и сократить их, биологи и прибегают к антропоморфным уподоблениям: например, говорят, что животное „выбирает“ сделать то-то и то-то или следует определенной стратегии. Эти метафоры не должны ввести читателя в заблуждение и заставить его думать, будто животные совершают сознательный выбор… поступки каждого из них генетически запрограммированы, они обусловлены их анатомией и инстинктами», – поясняет подобные фигуры речи известный орнитолог и популяризатор Джаред Даймонд. Иными словами, пава никаких расчетов не делает – просто естественный отбор на протяжении многих поколений благоприятствовал тем павам, которым нравились ухажеры с самыми длинными хвостами. Но как он мог это делать? Предполагается, что оба признака – необычно пышный хвост самца и слабость самки именно к таким хвостам – независимы и должны появиться случайно в одной и той же популяции и более-менее в одно и то же время (чтобы, когда носитель одного из них войдет в брачный возраст, носитель другого не успел из него выйти). При этом первый обладатель пышного хвоста отнюдь не обязательно будет иметь какие-то «скрытые достоинства»: это лишь статистическая корреляция, проявляющаяся только в большом числе случаев. Их пока нет, а значит, отбор пока не будет благоприятствовать «гену любви к хвостам». В то же время сам по себе, вне выбора самок, такой хвост скорее вреден (демаскирует, ухудшает летные качества). Значит, пока такие хвосты нравятся только одной самке-мутантке, отбор не будет содействовать и распространению «гена пышнохвостости», даже скорее будет работать против него. Получается замкнутый круг: пышный хвост не дает преимущества, пока нет множества предпочитающих его самок, а тяга к таким хвостам бесполезна, пока нет множества обладающих ими самцов [120]. А естественный отбор – не профессор социобиологии, просчитывать выгоды заранее он не умеет и поддерживает только то, что выгодно здесь и сейчас.
|
 Вернуться к просмотру книги
Вернуться к просмотру книги
 Перейти к Оглавлению
Перейти к Оглавлению
 Перейти к Примечанию
Перейти к Примечанию
 © 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно
© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно