
|
||
|
|
||
|
|
Онлайн книга - Ким Ир Сен | Автор книги - Андрей Балканский
Cтраница 15

Зарисовки боев, сделанные «с натуры». Рисунки корейцев-партизан. 1930-е гг. 
Мировой интернационал против японского империализма. Рисунки корейцев-партизан. 1930-е гг. 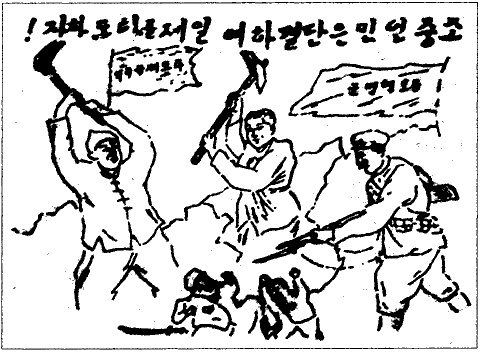
Мировой интернационал против японского империализма. Рисунки корейцев-партизан. 1930-е гг. Маньчжурские партизанские отряды получили распоряжение от Коминтерна атаковать столицу Маньчжоу-Го Чанчунь, а затем ударить в спину наступающим на внутренний Китай японским войскам. Однако наступление захлебнулось, а японцы начали карательную операцию против партизан. Отряд Кима попал в окружение. Переход из местечка Наньпайцзы в Бэйдадинцзы на реке Амнок зимой 1938/39 года известен как Трудный поход. Путь, который в обычных условиях занимал не больше недели, пришлось преодолевать более ста дней. Японские карательные подразделения постоянно шли по пятам за партизанами. Они использовали тактику «клеща»: обнаружив отряд, начинали постоянно преследовать его, не давая бойцам остановиться для отдыха и изматывая их силы. Ни добыть продуктов, ни замести следов в таких условиях было невозможно. На стороне японцев были численное преимущество и погодные условия, зима выдалась исключительно снежной и холодной. В конце концов отряду пришлось разделиться на несколько частей. Один из партизан — О Чжун Хыб — специально выдавал себя за своего командира. Отвлекая силы врага на свое подразделение, он начал отходить в глухие леса. «Этот маршрут проходил по не отмеченной на карте "белой зоне", в почти безлюдной местности, — вспоминал Ким. — Если и было там что-то, то лишь вроде хижины заготовителей древесного угля. Ступишь раз в эту местность — попадешь в лабиринт, из которого трудно выбраться живым. Однако О Чжун Хыб готов был претерпевать голод и нарочно выбрал такой трудный маршрут, чтобы отвлечь на себя врагов, наседавших на командование. Вначале они питались говядиной или кониной, добытой при налете на лесоразработки, но, углубляясь в глушь лесов, уже не могли нигде достать продуктов. Говорят, что съедобным там был только снег… Когда полностью кончился провиант, полк все равно продолжал поход. Бойцы утоляли голод отваром воловьей кожи, брошенной японскими солдатами. Новогодний праздник по лунному календарю О Чжун Хыб и его бойцы справили в том году мороженой картошкой. Несмотря на это, комполка беспокоился о нас: "Мы в этом лесу кушаем хоть такое, но чем же сейчас питается командование?"»12 Командованию тоже приходилось несладко. Именно к временам Трудного похода относится известный рассказ «Чашка толокна», о том, как ординарцы Кима, когда в отряде кончилась еда, достали для него толокно из мешочка с неприкосновенным запасом. Но он поделился скудной трапезой с бойцами, посоветовав представить, что перед ними не чашка, а целая мерка, чтобы почувствовать себя сытыми. Трудный поход благополучно окончился в конце марта, отряд воссоединился. Имя О Чжун Хыба, погибшего в бою осенью 1939 года, стало в КНДР одним из самых почитаемых в пантеоне антияпонских партизан. Не менее прославляется и подвиг другого бойца — Ma Дон Хи, который примерно в это же время был арестован японцами и впоследствии расстрелян. Как утверждается, во время допроса он откусил себе язык, чтобы не выдать расположение отряда и командующего Кима. Ну а «капитализация» молодого партизанского командира в глазах японцев значительно выросла. В 1939 году за его голову давали уже в десять раз больше, чем тремя годами ранее, — 200 тысяч иен. Война до предела обострила ситуацию на Дальнем Востоке. Уже казалась неизбежной схватка между СССР и Японией. А проживавшие в регионе корейцы, как подданные Японской империи, оказались между двух огней. Ким Ир Сен вспоминал, что японцы «проводили политику сеяния раздора между корейским и советским народами — точно так же, как это они делали в отношении народов Кореи и Китая». На советско-маньчжурской границе сформировали специальную роту из прояпонски настроенных корейцев, которые должны были вступать в конфликт с русскими пограничниками. Кроме того, японцы активно распространяли слухи о том, что подготовили немало шпионов-корейцев и заслали их в СССР. И не только распространяли, а действительно засылали. Агентурная работа облегчалась тем, что большое количество этнических корейцев проживали и в сопредельных областях Советского Союза. Тема нашла отклик на страницах центральной печати. «Шпион-кореец. Он "работает" на своих хозяев — японцев — не первый год, — писала «Правда». — Самые подлые, кровавые дела поручали ему… Недавно японский жандармский офицер поручил ему разведать, силен ли советский строй на Дальнем Востоке. Шпиону мерещились новые тысячи иен. Он согласился отправиться через границу. Поздней ночью шпион двинулся в путь. Но едва он вступил на советскую землю, как его задержал кореец-колхозник. Испытанное оружие провокатора — национальное родство — дало на этот раз осечку. Шпион просчитался. Корейцы — советские граждане — научились распознавать врага. Советский патриот-кореец доставил куда следует врага своего народа. Человекообразный хищник обезврежен»13. Однако в ситуации вполне реальной угрозы войны Сталин с товарищами из политбюро особенно полагаться на советский патриотизм корейцев не стали. В августе 1937 года было принято постановление «О выселении корейского населения из пограничных районов Дальневосточного края». Их было решено отправить в Среднюю Азию, где как раз планировалось наладить выращивание риса. Людям разрешили взять с собой вещи и пообещали компенсации при обустройстве на новом месте. Видимо, поэтому депортация происходила достаточно организованно, случаев серьезного сопротивления не было. Всего в Узбекистан и Казахстан было выселено 172 тысячи корейцев. Тем не менее в национальной памяти эти события оставили свой горький след. И даже глубоко уважавший Сталина до конца жизни Ким Ир Сен отзывался об этом с осуждением: «В середине 30-х годов осуществлялось коллективное переселение проживающих на Дальнем Востоке корейцев в районы Средней Азии. Советские люди объясняли, что перемещение людей корейской национальности в Казахстан и Узбекистан — вынужденная мера, необходимая для обеспечения обороны страны. Но корейцев такое объяснение не устраивало. Услышав весть об этом, я тоже до глубины души испытал горечь народа, лишенного Родины»14. Амбициозное японское командование словно проверяло Сталина и его маршалов на прочность. Насколько сильны русские? Возможно ли будет потеснить их в Сибири? Вновь промаршировать по улицам Владивостока, как в 1920 году? Наконец, как пелось в песне начала века, водрузить на высотах седого Урала священное знамя империи Ямато? Именно с целью найти ответы на эти вопросы были организованы столкновения у озера Хасан и вторжение в Монголию у Халхин-Гола. Ответы были получены самые наглядные. «Нарушителей границы вымел грозный ураган, им горька была водица в нашем озере Хасан!» — сказано уже в советской песне. РККА отлично зарекомендовала себя в этих боях, и именно поэтому на большую войну с Советами Япония не решилась ни в тот момент, ни впоследствии.
|
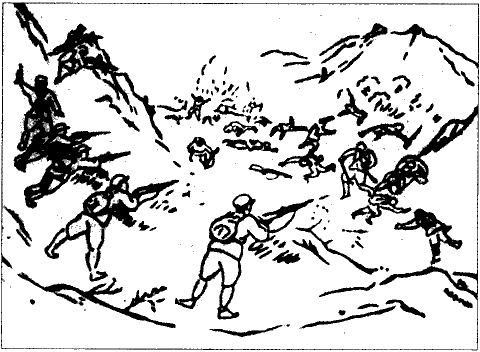
 Вернуться к просмотру книги
Вернуться к просмотру книги
 Перейти к Оглавлению
Перейти к Оглавлению
 Перейти к Примечанию
Перейти к Примечанию
 © 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно
© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно