
|
||
|
|
||
|
|
Онлайн книга - Агония Российской Империи. Воспоминания офицера британской разведки | Автор книги - Робин Брюс Локкарт
Cтраница 1

Книга I
МАЛАЙСКИЙ ИСКУС Глава первая
В моей бурной и разнообразной жизни случай играл большую роль, чем ему обычно предоставляется. В этом я сам виноват. Никогда я не пытался быть полным господином своей судьбы. Наиболее сильный импульс момента управлял всеми моими действиями. Когда случай вознес меня на головокружительную высоту, я принял его дары с распростертыми объятиями. Когда он сверг меня вниз с моей вершины, я принял его удары без жалобы. У меня были часы раскаяния и сожаления. Я привык заглядывать внутрь себя и прислушиваться к голосу своей совести. Но этот самоанализ всегда был объективным. Он никогда не был болезненным. Он никогда не помогал и не мешал мне на моем бурном жизненном пути. Он не был мне ничем полезен в вечной борьбе, которую ведет человек сам с собой. Разочарования не излечили меня от неискоренимого романтизма. Если иногда я недоволен своими поступками, — угрызения совести терзают меня только за то, что я оставил незавершенным… Я родился в Анструтере — графство Файф — 2 сентября 1887 года. Отец мой был учителем начальной школы, переселившимся в Англию в 1906 году. Мать моя была из семьи Макгрегор (шотландка). Среди моих предков были Брюсы, Гамильтоны, Комминги, Вельсы и Дугласы, и я могу проследить свой род до Босвела Аучинлекского. Таким образом, во мне нет ни единой капли английской крови. Мои воспоминания детства кроме меня, никого не могут интересовать. Мой отец был завзятым иг-роком в футбол, в регби и состоял членом шотландского футбольного жюри. Братья моей матери были хорошо известными шотландскими атлетами, таким образом, свою первую тренировку в футболе я получил, когда мне было четыре года, под руководством различных шотландских игроков, выступавших на международных состязаниях. И поэтому, как только я научился ходить, я уже умел забивать гол. Как ни странно, отец мой, сам не будучи игроком, был горячим поклонником крикета. Когда родился мой третий брат, я захлопал в ладоши и радостно воскликнул: «Теперь у нас есть форвард, однобег и голкипер». Затем я стащил сырой кусок мяса и положил его в люльку, чтобы его мускулы скорей развивались и кости окрепли. В это время мне было семь лет! В других отношениях воспитание мое проходило нормально. Я получал свою порцию телесного наказания, главным образом за игру в футбол и крикет в субботу, которую мой отец строго соблюдал. В двенадцатилетнем возрасте я начал мое обучение в Феттсе, где провел пять лет, увлекаясь атлетикой. Это чрезмерное пристрастие к спорту имело печальные последствия для моих занятий. В первом семестре моего обучения в Феттсе я лучше всех выполнил письменную работу по латыни, заданную всей школе, но ошибся в шестом падеже. За остальное время моего пребывания в школе я уже больше ни разу не попадал в число 50 лучших учеников и, хотя я достиг успехов в освоении шестого падежа, был причиной тяжелого разочарования для моих родителей. Чтобы излечить меня от нездоровой страсти, отец отправил меня в Берлин, вместо того чтобы поместить в Кембридж, где несколько лет спустя мой младший брат был дважды награжден голубой лентой за спортивные успехи, но не получил награды за знание новых языков, которыми он, несомненно, овладел бы при других условиях. Я многим обязан Германии и профессору Тилли. Тилли был австрийцем, сделавшимся более пруссаком, чем сами пруссаки, вплоть до того, что он исключил из своего имени букву «е», подписываясь так, как это делал великий немецкий авантюрист. Его метод был спартанским и безжалостным, но он научил меня работать — достоинство, которое несмотря на многие отклонения никогда не было совсем мною утрачено. Он научил меня еще двум ценным вещам: уважению к неанглийским обычаям и установлениям и секрету овладения иностранными языками. Первое помогло мне во взаимоотношениях с иностранцами в течение моей последующей жизни. Последнее помогло мне занять правильную позицию (уважать нравы и обычае иностранцев — прим. ред.), когда семью годами позже я отправился в Россию. Если Тилли жив, я надеюсь, он прочтет эти строки и увидит, что я воздаю должное его методам воспитания. Его влияние было единственным в моей жизни, которое я могу назвать вполне благотворным. Из Берлина я был отправлен в Париж, где находился под влиянием доброго и благочестивого человека — Поля Пасси. От него я перенял прекрасное французское произношение и познакомился с мировоззрением уэльских возрожденцев. Пасси, который был сыном Фредерика Пасси, знаменитого французского юриста и пацифиста, был самым мягким из кальвинистов. В юности он пожелал стать миссионером, и, как человек, серьезно относящийся ко всякому принятому на себя делу, он с большой заботой подготовлял себя к этому трудному служению, поедая крыс. Болезнь легких помешала этому великому ученому похоронить себя в глуши Китая или отдаленных островов Южного моря. Эта потеря для язычников принесла пользу науке, и в настоящее время имя Пасси навсегда поставлено в одном ряду с именами Свита и Виэтора в почетном списке пионеров учения о фонетике. Несмотря на свое увлечение лингвистикой, он никогда не покидал своей достойной работы в исправлении грешников. Когда я впервые узнал его, он находился под влиянием Эвана Робертса, уэльского евангелиста, и единственный раз в моей разнообразной жизни мне пришлось выступить перед парижскими босяками с пением гимнов уэльских возрожденцев на французском языке. Пасси читал молитву и иг-рал на гармонике в то время, как я пел соло под аккомпанемент хора из трех дрожащих английских студентов. Если жизнь есть смена случаев, то в моей жизни они чередовались быстро. После трех лет пребывания во Франции и в Германии я возвратился в Англию с целью пройти окончательную подготовку к гражданской службе в Индии. Судьба и моя склонность к странствованию определили другой путь. В 1908 году мой дядя, один из пионеров резиновой промышленности в Малайских штатах, приехал с Востока домой и воспламенил мое воображение баснословными рассказами о богатстве, которое можно с легкостью приобрести в этой фантастической и волшебной стране. В моей крови уже закипело стремление к путешествиям, желание увидеть новые страны, испытать новые приключения. Я решил связать свою судьбу с каучуковыми плантаторами и отправился на восток. Свои студенческие годы в Берлине и Париже я провел серьезно и безупречно. В Германии страстное поклонение Гейне — даже теперь я могу прочесть наизусть большую часть «Интермеццо» и «Возвращения на родину» — привело к невинному роману с дочерью одного немецкого морского офицера. Лунными ночами я скользил в лодке по Ванзее и вздыхал за кружкой пива на террасе кафе Шлахтензее. Я пел в присутствии ее матери самые новые и самые чувствительные венские и берлинские песенки. И я овладел немецким языком. Но у меня не было ни авантюр, ни проделок, ни эксцессов. Во Франции я увлекался экзотическим сентиментализмом Лоти, которого я однажды встретил и чьи эксцентричные и аффектированные манеры не излечили меня от восторга, который я испытываю по сей день перед очарованием его прозы. Но я проливал в одиночестве слезы над чтением «Ле Дезеншантэ». Я наизусть выучил прелестные письма Дженан. Тремя годами позже это сослужило мне хорошую службу во время моего экзамена на консульского чиновника. Но я не пытался подражать длинной серии «Мариаж де Лота». Теперь Восток выводил меня на широкую дорогу неограниченных искушений.
|
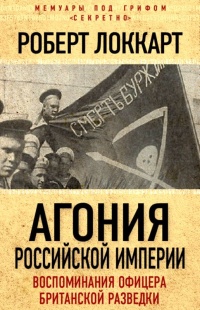
 Вернуться к просмотру книги
Вернуться к просмотру книги
 Перейти к Оглавлению
Перейти к Оглавлению
 Перейти к Примечанию
Перейти к Примечанию
 © 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно
© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно