
|
||
|
|
||
|
|
Онлайн книга - Спасибо Уинн-Дикси | Автор книги - Кейт ДиКамилло
Cтраница 15

Папа! — крикнула я. Мгновение спустя он уже стоял на пороге моей комнаты, удивленно вздернув брови. — Какое слово ты сказал? Которое говорят вместо слова «печаль»? — Меланхолия. — Меланхолия, — повторила я. Мне понравилось сочетание звуков, словно внутри слова таилась музыка. — А теперь спокойной ночи, — сказал пастор. — Спокойной ночи. Я выбралась из кровати и развернула еще один «Ромбик Литтмуса». Я сосала его долго-долго и все думала о том, как меня бросила мама. И на душе у меня была… меланхолия. Потом я думала про Аманду с Карсоном. И от этого тоже была меланхолия. Бедная Аманда. Бедный Карсон. Такой же маленький, как Плюшка-пампушка. Но он больше не будет отмечать день рождения. 
Глава девятнадцатая

— А что, сегодня праздник какой-то? — удивился он. — Нет. Почему вы так решили? — Ну, ты же принесла мне конфету? — Просто так. В подарок. А день самый обычный. — Ну ладно. — Отис снял обертку и сунул конфету в рот. И вдруг по его щекам покатились слезы. — Спасибо. — Вам понравилось? Он кивнул. — Очень вкусная конфета. Но только… как будто снова в тюрьме сидишь. — Гертруда! — заорала попугаиха и уцепила клювом фантик от «Ромбика Литтмуса». Потом бросила его на пол и снова заверещала: — Гертруда! — Тебе не положено, — сказала я твердо. — Птицы конфет не едят. А потом быстро — чтобы не растерять всю решимость — выпалила: — Отис, а за что вы сидели в тюрьме? Вы убийца? — Нет, мэм. — Вы грабитель? — Нет, мэм. — Отис сосал конфету и смотрел на острые носки своих сапог. — Ладно, можете не рассказывать… Но просто интересно. — Я не опасен, — произнес Отис. — Тебе нечего бояться. Я одинокий, но не опасный. — Понятно, — кивнула я и пошла в чулан за шваброй. А когда вернулась, Отис стоял на том же месте и по-прежнему смотрел в пол. — Во всем виновата музыка, — сказал он. — В чем она виновата? — В том, что я угодил в тюрьму. Из-за музыки. — И как же это случилось? — Я все дни напролет играл на гитаре. Иногда играл на улице, и люди бросали мне деньги. Играл-то я не ради денег. Просто музыка становится лучше, если ее кто-то слушает. Но однажды приехала полиция. И мне велели больше не играть. Они объясняли мне, что я нарушаю закон, а я все играл. Ни на минуту не перестал. Ну они и рассвирепели. Хотели наручники на меня надеть. — Он вздохнул. — Мне это не понравилось. С этими наручниками на гитаре уже не поиграешь. — И что было дальше? — Я ударил, — прошептал Отис. — Вы побили полицейских? — Ударил. Одного. Сбил с ног. И меня посадили в тюрьму. Посадили за решетку и отобрали гитару. А когда в конце концов отпустили, с меня взяли слово, что я больше никогда не буду играть на улице. — Он метнул на меня быстрый взгляд и снова уставился в пол. — Ну, вот я на улице и не играю. Только здесь. Для зверюшек. Гертруда — не попугаиха, а хозяйка магазина — сама предложила мне эту работу, когда прочитала обо мне в газете. Она сказала, что я могу играть здесь сколько душе угодно. Только для зверей. — Вы и для меня играете. И для Уинн-Дикси. И для Плюшки-пампушки. — Верно. Но вы же не на улице. — Спасибо, Отис, — сказала я. — Хорошо, что вы мне все рассказали. — Да что там… это не секрет. Тут пришла Плюшка-пампушка, и я тоже дала «Ромбик Литтмуса». Только она сразу выплюнула и сказала, что ей невкусно. — Такой вкус, будто у меня никогда не будет собачки. В тот день я подметала медленно-медленно. Мне хотелось подольше побыть с Отисом. Чтобы ему не было одиноко. Похоже, все люди на белом свете одиноки. Я вспомнила о маме. Я то и дело вспоминаю о ней… как будто залезаю кончиком языка в дырочку от только что вырванного зуба. Раз за разом мои мысли возвращаются к пустоте, которую может заполнить только мама. 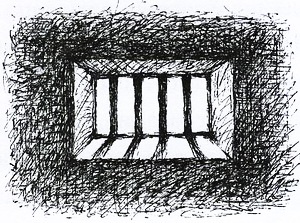
Глава двадцатая

Посмеявшись вдоволь, она, наконец, вымолвила: — Ну и ну… Вот тебе и опасный преступник! — Он просто очень одинокий. И хочет не сам себе играть, а чтоб его кто-нибудь слушал. Глория вытерла глаза подолом своего платья. — Я все понимаю, дорогуша, все понимаю. Просто иногда жизнь до того печальна, что становится смешной. — А знаете, что я еще узнала? — Мне разом вспомнились все печали, о которых я услышала за последние дни. — Помните, я рассказывала про девочку с кислым лицом? Про Аманду? Так вот, у нее в прошлом году братик утонул. Ему было всего пять лет. Как Плюшке-пампушке Томас. Глория больше не улыбалась. — Я слышала об этом, — кивнула она. — Слышала, что в городке утонул мальчик. — Вот поэтому у Аманды такое лицо. Она горюет по брату. — Очень возможно, — согласилась Глория. — Выходит, каждый человек по кому-то горюет или скучает? Как я по маме? — Хм… — Глория задумалась. Прикрыла глаза. — Мне иногда кажется, что у всего мира щемит сердце, — произнесла она, помолчав. Я больше не могла думать обо всех этих бедах и горестях. Ведь им уже не поможешь. Поэтому я предложила: — Хотите еще послушать «Унесенные ветром»? — Конечно, — встрепенулась Глория. — Я целый день только того и жду. Интересно же узнать, что еще затеяла мисс Скарлетт. |
 тром мы с Уинн-Дикси отправились подметать полы к «Питомцам Гертруды», и я захватила с собой «Ромбик Литтмуса» для Отиса.
тром мы с Уинн-Дикси отправились подметать полы к «Питомцам Гертруды», и я захватила с собой «Ромбик Литтмуса» для Отиса.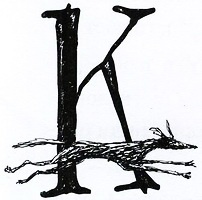 огда я рассказала Глории Свалк об Отисе — о том, за что его арестовали, — она начала хохотать, да так, что мне пришлось придерживать ее вставную челюсть, чтоб не выпала ненароком.
огда я рассказала Глории Свалк об Отисе — о том, за что его арестовали, — она начала хохотать, да так, что мне пришлось придерживать ее вставную челюсть, чтоб не выпала ненароком. Вернуться к просмотру книги
Вернуться к просмотру книги
 Перейти к Оглавлению
Перейти к Оглавлению
 © 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно
© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно