
|
||
|
|
||
|
|
Онлайн книга - Видения Коди | Автор книги - Джек Керуак
Cтраница 6

(поднесите к нему зеркало) и через дурачества эти вспышками проносятся машины, и жопы пешеходов спешат мимо холодной вспышкой, когда желтые таксомоторы, вспышка – ярко-желтый мазок, когда люди, вспышка запоминается и человечья (рука, сумка, ноша, пальто, сверток холстов, тусклое, над ним парящие белые лица) – Когда машина, вспышка темна и сияет, и пялишься в нее ради всех признаков вспышек, иногда видишь лишь мягкие щелчки, входящее и исходящее свеченье от неоновых огней, переплетенных на улице – и белую линию посреди Шестой авеню, и лишь малейший намек на кусок мусора в канаве через дорогу, если только не напоминанье о самой канаве, не глядя, но только впитывая, пока пялишься, а люди проходят, и ты знаешь, что они такое (два тексасца! Я так и знал! И два негра! Так и знал!) битый серый купе вспышкой насквозь с таким видом, будто из Массачусетса (рьяные канадцы приезжают ебаться в отелях Нью-Йорка) – вот задом наперед буквы «Горячий шоколад вкусно» смещают свою глубину, когда глаза у меня округляются – они танцуют – сквозь них я знаю город, да и Вселенную – Вот теперь и наконец-то прямо рядом с этой частью витринного стекла, куда я пялился полчаса, вглядываясь в область шести дюймов между шторами и окном – зеркало с боковой стены, которое отражает все, что происходит справа от меня на улице, фактически тем местам, что я даже не вижу, поэтому пялясь в свою «вспыхалку», я вдруг увидел, как из угла моего глаза выехало такси и просто так никуда и не приехало, взяло и исчезло – оно двигалось справа в действительности, в отражении слева, а я наблюдал вспышку действительно едущих вправо машин и таксомоторов – В том шестидюймовом пространстве еще и люди есть, соблюдают те же законы движения и отражения, только не с такого огромного расстояния, потому что они ближе к плоскому стеклу, а точнее к чудодейному зерцалу, и не отброшены на дороге, появляющейся издали. Наблюдаю эту «вспыхалку», и тут появилась машина и встала прямо в ней, то есть видно очень сияющее новое крыло (затмевая, к примеру, белую полосу посреди дороги) и в том крыле, которое круглое, те чокнутые маленькие образы вещей и света, что видны на круглых сиячках (как все равно что у тебя нос огромнеет, когда приглядишься поближе) те образочки, но для меня слишком мелкие, чтоб можно было издалека наблюдать их в деталях, играют – а играют они лишь потому, что вспыхивает красный неон, и всякий раз, как он загорается, я вижу их больше, нежели когда нет, – и в действительности главный неоновый чокнутый образ играет на серебряном ободе передней фары «олдзмобила-88» (это я уже поглядел и вижу), пока тот вспыхивает и гаснет красным, и я слышу поверх лязга и сонливости столовской посуды (и шелеста крутящихся дверей с хлопающими резинками) и стонущих голосов, я слышу поверх этого слабые клаксоны и движущиеся спешки города, и у меня великое бессмертное мегаполисное в-городе чувство, в которое я впервые врубился (и все мы) во младенчестве… шмяк в сердце сияющих блесков. Бродя подземками, я вижу негритянского кошака, он в обычной серой фетровой шляпе, но темно-синей, или же лиловатой, рубашке с белыми сверкающими типа-перламутровыми пуговицами – сером пиджаке от костюма акульей кожи поверх – но в коричневых брюках, черных ботинках, темно-синих обычных носках с одной полосой и габардиновом широком пальто, коротком и битом, с нижнекраями, распущенными дождем – везет бурый бумажный сверток – лицо (он спит) большого мощного бойца, угрюмое, толстогубое (толстая африкская губа) но странно толстенькое милое лицо – темная бурокожа – большие руки болтаются, ногти у него розовые (не белые) и испачканы от трудовой работы – Похож на Джо Луиса, только такого Джо Луиса, кто не знал ничего, кроме леденяще холодных утр харлемской зимы, когда старые чернобичи бесконечно битее старика Коди Помрея алкашного Денвера проходят мимо в шерстяных шапочках, натянутых на уши без каких-либо видов на какое бы то ни было будущее, разве что грязные снега ниже нуля – Вид его дик, испуган, едва ль не в слезах, когда он просыпается, подремав, и глядит через проход на краснолицего белого человека в очках и в серой одежде с большим красным рубином на пальце, словно бы мужчина этот хотел убить конкретно его… (фактически у мужчины глаза закрыты, он резинку жует). Вот кошак увидел меня и смотрит на меня с каким-то рассветающим простым интересом, но тут же снова впадает в сон (люди на него и раньше смотрели). Кошак этот едет с работы в Куинзе, где, несомненно, есть проволочная ограда, и он везет с собой какую-то тряпку и едет с непокрытой головой. Вот его большая харлемская шляпа снова на нем (я сказал обыкновенная? В нее вделана эта чумовая харлемская острота, что взносит до вершин, это восточная шляпа, тысячи кошаков на улице). Он меня к тому же наводит на мысли о странном негритянском клохтанье или полосканье в голосе, что сопровождает странно смиренное шутовское положение Американского Негра, и оно ему самому нужно и хочется из-за в первую голову кроткой святости, как у Мышкина, смешанной с первобытным гневом у них в крови. Выходя, он прошел-ковылял наружу, с бока на бок, пощелкивая, ленивый, полусонный: «Ты чё делаешь? Чё ты делаешь?» типа, и он, казалось, мне говорил – Черт, вот и нет его, свалил, я его люблю. Но теперь давайте рассмотрим тех американских дурней, кто хочет стать большими рыгунами и ездить подземкой в накрахмаленных белых воротничках (О Джи-Джей, твоя бездна?) и в «деловой» одежде, и однако же ей-богу смеются они и охотно пыжатся перед своими друзьями, совсем как счастливые Коди, Лео, Чарли Биссоннетты времени – вот этот вот мелкий предприниматель, на самом деле парень хороший, это я могу определить по его умоляющему хохотку – такому, что давится и говорит: «О да, и не говори, я тебя в тот раз любил!» И горе! горе! мне, я теперь вижу, что он калека – левая стопа – и лицо его теперь есть лицо серьезного хмурящегося рьяного инвалида, может, как лик того чудовища на доске с колесиками с Лэример-стрит, который, должно быть, обернулся крупно и рьяно со своих исподов, когда увидел его, молодого Коди, как тот шел, стуча-мячом, вдоль по улице из школы в скосе трагических утраченных предвечерий, давно уж отошедших от памяти любви, что есть секрет Америки – утрачен и он, этот подземочный инвалид, в складках своих же толстых встопорщенных шейных мышц, как у мужчины – несет конверт бумажной папки – болтая с высоким парнем помоложе в очках, которым восхищается и к кому подается, разумеется, с любовью старшего ко младшему, а особенно человека больного к здоровому тупочелу, как повсюду. Ближе к дому, в Джамейке, по-прежнему бродя, славное окно пекарни: вишневый пирог с маленьким круглым отверстием посередине показать глазированные вишенки – то же у всех прочих пирогов с корочкой, включая с фаршем, яблоком – фруктовые пироги с вишнями, орехами, глазированными ананасами, сидящими в воздетых картонных чашечках – изумительные тортики с заварным кремом, с золотыми лунами – припудренные слоеные с лимонной начинкой – маленькие сверх-особые печеньки двух оттенков – также двуцветные шоколадные глазури на круглых красивых шоколадных тортах с посыпкой бурыми крошками вокруг донных краев и прелестными распущенными конструкциями самой глазури – сделаны лопатками пекаря – Жирные восхитительно вкусные яблочно-ананасные тортики, что похожи на увеличенные издания тортиков из «Автомата», комковатая глазурь с блеском – Все смотрят – Дикие драные кокосовые пирожные с вишенкой в середине… как чумовые седины.
|
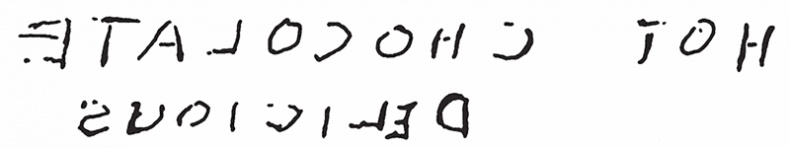
 Вернуться к просмотру книги
Вернуться к просмотру книги
 Перейти к Оглавлению
Перейти к Оглавлению
 Перейти к Примечанию
Перейти к Примечанию
 © 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно
© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно