
|
||
|
|
||
|
|
Онлайн книга - Безгрешность | Автор книги - Джонатан Франзен
Cтраница 39

– Ты думаешь о самоубийстве? – напрямик спросила она. – Ха. Только при норд-норд-весте. – Что это значит? – Это из “Гамлета”. Значит: на самом деле нет. – У меня в школе был друг, он покончил с собой. Ты чем-то на него похож. – Я однажды прыгнул с моста. Но там было всего восемь метров. – То есть не самоубийца, а бесшабашный членовредитель. – Это был рациональный и взвешенный поступок, никакой бесшабашности. И это было давно. – Но я чувствую прямо сейчас, – настаивала она. – Чуть ли не носом чую. Вот и от моего друга так пахло. Ты нарываешься и, кажется, даже не понимаешь, как сильно в этой стране можно нарваться. Лицо у нее было так себе, но это не имело значения. – Я не нарываюсь, а ищу другой способ жить, – серьезно ответил он. – Плевать как, лишь бы по-другому. – Как по-другому? – Честно. Мой отец врет профессионально, мать – как талантливая любительница. И если такие процветают, что это говорит о стране? Знаешь эту песню “Роллинг стоунз” – Have You Seen Your Mother, Baby? – Standing in the shadow… – Когда я первый раз ее услышал по американскому радио, я нутром почуял: все, что мне талдычили о Западе, – вранье. Мне звука хватило, чтобы понять: общество, где рождается подобный звук, не может быть таким обществом угнетения, как нам говорят. Нахальство, распущенность – может быть. Но это счастливое нахальство, счастливая распущенность. И что можно сказать о стране, где пытаются запретить такой звук? Он говорил эти слова просто так, надеясь произвести впечатление на Урсулу, но говоря их, понял, что действительно так думает. Такой же парадокс случился, когда он пришел домой (он по-прежнему жил с родителями) и попытался сочинить что-нибудь такое, что Урсула могла бы принять за настоящие стихи: первое побуждение было расчетливо-мошенническим, но вдруг оказалось, что из-под пера выходит нечто подлинное – тоскливое и жалобное. Так он стал – на некоторое время – поэтом. С Урсулой у него ничего не вышло, но он обнаружил в себе талант к стихосложению, возможно родственный его способности реалистично изображать обнаженных женщин, и уже через несколько месяцев одно его стихотворение принял к публикации государственный журнал и он дебютировал в поэтических чтениях. Мужская часть богемы по-прежнему ему не доверяла, но о молодых женщинах этого нельзя было сказать: настала счастливая пора, когда он просыпался то в одной, то в другой постели – дюжина их сменилась за короткое время, – просыпался в разных концах города, в кварталах, о существовании которых прежде и не подозревал, в квартирах без водопровода, в узких до нелепости спальнях у Стены, в местах, где от автобуса надо двадцать минут топать пешком. Есть ли что-нибудь столь же сладко-экзистенциальное, как в три часа ночи идти ради секса по самым пустынным улицам на свете? Как походя уничтожить всякий разумный распорядок сна? Как встретиться по пути в душераздирающе скверный санузел с чьей-нибудь матерью в халате и бигуди? Он писал об этих приключениях изощренно рифмованные стихи, отражая в них пребывание своего ни на что не похожего, субъективного “я” в краю, чье убожество скрашивал лишь восторг сексуальных побед, – писал и никаких неприятностей не нажил. Цензурный режим в стране к тому времени несколько смягчился и допускал подобные субъективные высказывания – по крайней мере, в поэзии. Что подвело его – это стихи с секретом, которые он сочинял, когда голова уставала от математики. Та поэзия, в рамках которой он писал, успокаивала его тем, что сужала выбор слов. После хаоса, каким сделала его детство мать, ему желанна была дисциплина схем рифмовки и прочих формальных ограничений. На очередном сборном литературном вечере, получив всего семь минут, он прочел свои стихи с секретом, потому что они были короткие и не выдавали секрет слушателю – только читателю. После выступления редактор из “Ваймарер байтреге” похвалила стихи и сказала, что могла бы кое-что напечатать в номере, который ей скоро сдавать. Почему он согласился? Может быть, в нем и правда таилась некая склонность к самоубийству? Или все дело в том, что надвигалась армейская служба? Уже то, что он получил отсрочку, было, учитывая высокую должность отца, до некоторой степени скандально. Пусть даже, что вполне вероятно, его ждала служба в элитных частях разведки или связи, он не мог себе представить, как он выживет в армии (поэтическая дисциплина – одно, армейская – совсем другое). Или, может быть, его согласие объяснялось просто-напросто тем, что редактор была примерно сверстницей его матери и кое-чем ее напоминала: до того ослеплена самомнением и привилегиями, что не видит, какой она абсолютный инструмент, винтик. Она, должно быть, воображала себя чуткой покровительницей юношеской субъективности, человеком, хорошо понимающим современную молодежь, и ни ей, ни ее начальству, видимо, не могло прийти в голову, что молодой человек, еще более привилегированный, чем они, захочет поставить их в неловкое положение. Потому что никто из них не заметил того, что заметили все читатели журнала в первые же сутки продаж: 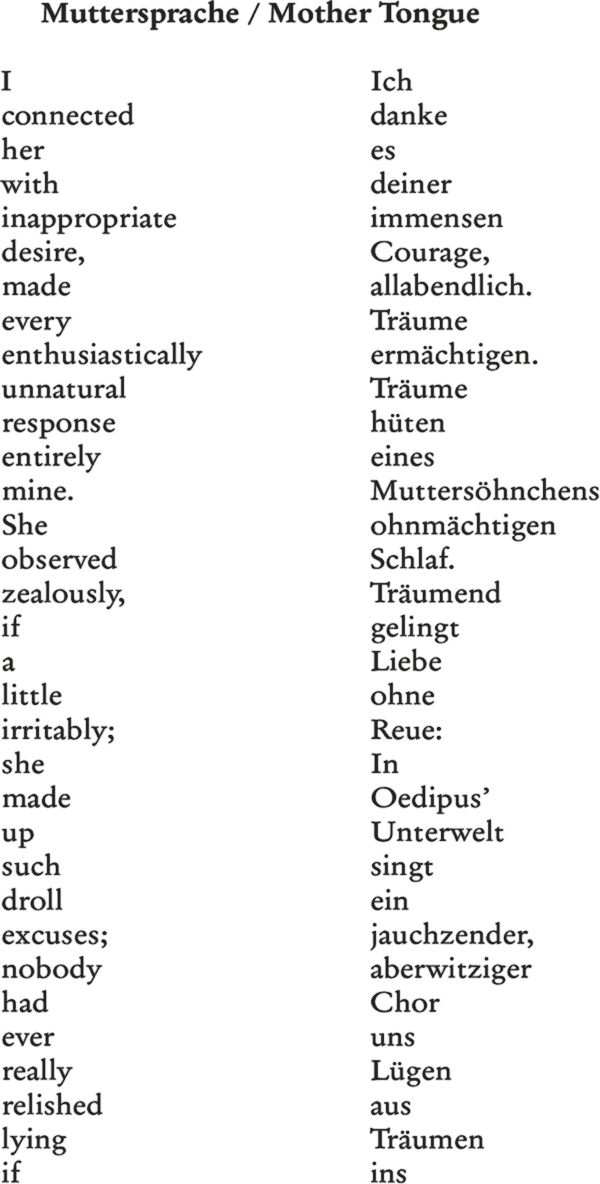
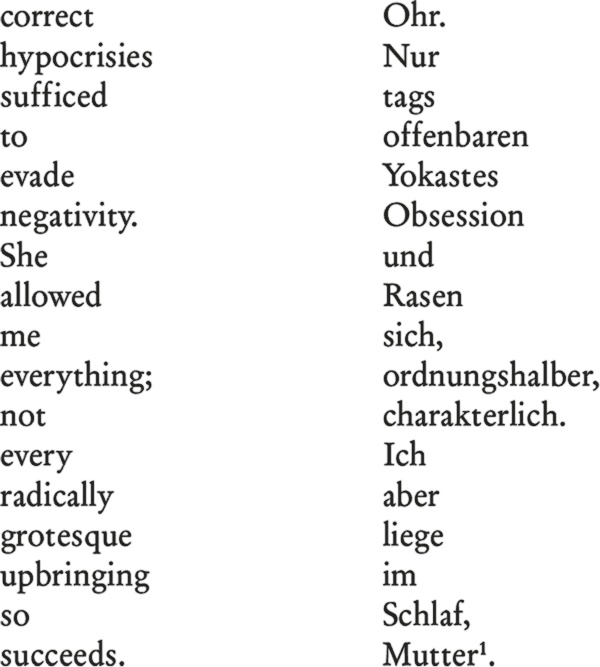
И гвалт же поднялся – любо-дорого! Журнал снимали со всех магазинных полок, увозили на переработку в макулатуру, редакторшу уволили, главного понизили, Андреаса мгновенно вышибли из университета. Из кабинета декана он вышел с такой широкой ухмылкой, что шея заболела. Судя по тому, как поворачивались к нему головы незнакомых студентов – и как знакомые поспешно отворачивались, – весь университет уже прослышал, что он натворил. Конечно, прослышал, ведь сплетни – главное, чем наполняли свои дни все жители Республики, за исключением разве что его отца.
|
 Вернуться к просмотру книги
Вернуться к просмотру книги
 Перейти к Оглавлению
Перейти к Оглавлению
 Перейти к Примечанию
Перейти к Примечанию
 © 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно
© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно