
|
||
|
|
||
|
|
Онлайн книга - Люди города и предместья | Автор книги - Людмила Улицкая
Cтраница 1

Даниэль Штайн, переводчик
Благодарю Бога моего: я более всех вас говорю языками; но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. 1 Кор. 14, 18–19 Часть первая
1
Декабрь, 1985 г., Бостон. Эва Манукян Я всегда мерзну. Даже летом на пляже, под обжигающим солнцем, холод в позвоночнике не проходит. Наверное, потому, что я родилась в лесу, зимой, и первые месяцы моей жизни провела в отпоротом от материнской шубы рукаве. Вообще-то я не должна была выжить, поэтому если уж кому жизнь подарок, то мне. Только не знаю, нужен ли мне был этот подарок. У некоторых людей память о себе включается очень рано. Моя начинается с двух лет, со времен католического приюта. Мне всегда было очень важно знать, что происходило со мной и моими родителями все те годы, о которых я ничего не помню. Кое-что я узнала от старшего брата Витека. Но он в те годы был слишком маленьким, и его воспоминания, которые перешли мне от него в наследство, не восстанавливают картины. Он в больнице исписал половину школьной тетрадки — рассказал мне все, что помнил. Тогда мы не знали, что мать жива. Брат умер от сепсиса в шестнадцатилетнем возрасте до ее возвращения из лагеря. В моих документах местом моего рождения называется город Эмск. В действительности это место моего зачатия. Из Эмского гетто моя мать сбежала в августе 1942 года, на шестом месяце беременности. С ней был мой шестилетний брат Витек. Родилась я километрах в ста от Эмска в непроходимых лесах, в тайном поселении сбежавших из гетто евреев, укрывавшихся там до самого освобождения Белоруссии в августе 1944 года. Это был партизанский отряд, хотя на самом деле никакой это был не отряд, а три сотни евреев, пытавшихся выжить в оккупированном немцами крае. Мне представляется, что мужчины с оружием скорее охраняли этот земляной город с женщинами, стариками и несколькими выжившими детьми, чем воевали с немцами. Отец мой, как рассказала мне много лет спустя мать, остался в гетто и там погиб — через несколько дней после побега все обитатели гетто были расстреляны. Мать сказала мне, что мой отец отказался уходить, считая, что побег только озлобит немцев и ускорит расправу. И тогда моя беременная мать взяла Витека и ушла. Из восьмисот обитателей гетто на побег решились тогда только триста. В гетто согнали жителей Эмска и евреев из окрестных деревень. Мать моя не была местной жительницей, но оказалась в тех краях не случайно, а была заслана туда связной из Львова. Она была одержимой коммунисткой. Витека родила она в львовской тюрьме в тридцать шестом от своего партийного товарища, а меня от другого мужчины, с которым познакомилась в гетто. В жизни я не встречала женщины, менее склонной к материнству, чем моя мать. Думаю, что родились мы с братом исключительно из-за отсутствия превентивных средств и абортариев. В юности я ее ненавидела, потом много лет отчужденно изумлялась и до сего дня едва терплю общение с ней. Слава богу, крайне редкое. Всякий раз, когда я задаю ей какой-нибудь вопрос о прошлом, она ощетинивается и начинает орать: в ее глазах я всегда оставалась аполитичной мещанкой. Я и есть такая. Но я родила ребенка, и я точно знаю: когда появляется ребенок, жизнь женщины подчиняется этому факту. Больше или меньше. Только не у нее. Она — партийная маньячка. Месяц тому назад меня познакомили с Эстер Гантман. Такая прелестная прозрачная старуха, очень белая, с высиненной сединой. Она приятельница Карин, они работали вместе в какой-то благотворительной организации, и Карин давно мне про эту Эстер говорила, но я ею совершенно не заинтересовалась. Незадолго до Рождества Карин устроила прием по поводу своего пятидесятилетия, и я сразу обратила внимание на Эстер. Она чем-то выделялась в большой толпе полузнакомого народа. Вечеринка эта была намного сердечнее, чем это бывает обыкновенно у американцев: все-таки было много поляков, несколько русских и пара югославов. Словом, славянское присутствие на этом американском празднике как-то приятно ощущалось, временами слышалась польская речь. По-русски и по-польски я говорю одинаково свободно, а в английском у меня польский акцент, на что и обратила внимание Эстер, когда мы перебрасывались какими-то незначительными репликами в пределах светской болтовни. — Из Польши? — спросила она. Этот вопрос меня всегда немного озадачивает: мне трудно ответить — не станешь же вместо лаконичного ответа бросаться в пространный рассказ о том, что мать моя родилась в Варшаве, а я родилась в Белоруссии неизвестно от кого, детство провела в России, в Польшу попала только в пятьдесят четвертом, потом снова уехала учиться в Россию, оттуда переехала в ГДР, а уж потом в Америку… Но в этот раз я почему-то сказала то, чего никогда не говорю: — Я родом из Эмска. Точнее, из Черной Пущи. Старуха тихо ахнула: — Когда ты родилась? — В сорок втором. — Я никогда не скрываю возраста, потому что знаю, что выгляжу молодо, мне моих сорока трех никогда не дают. Она обняла меня легкими ручками, и голубая ее прическа затряслась старческой дрожью: — Боже мой, боже мой! Значит, ты выжила! Эта сумасшедшая родила тебя в землянке, мой муж принимал роды… А потом, не помню точно, кажется, месяца не прошло, она взяла детей и ушла неизвестно куда. Все уговаривали ее остаться, но она никого не слушала. Все были уверены, что вас схватят на дороге или в первой же деревне… Велик Господь — ты выжила! Тут нас вынесло в прихожую. Мы просто расцепиться не могли. Стащили с вешалки нашу одежду — смешно, но шубы были одинаковые — толстые, лисьи, в Америке почти неприличные. Потом оказалось, что Эстер тоже из мерзлявых… Поехали к ней — она живет в центре Бостона, на Коммонуэлс-авеню, в чудесном квартале, в десяти минутах от меня. Пока мы ехали — я за рулем, она рядом, — у меня возникло такое странное чувство: всю жизнь я мечтала иметь кого-то старшего, мудрого, кто мог бы мной руководить, кого бы я могла слушать, радостно подчиняться, — и никогда такого не было. В приюте, конечно, была строгая дисциплина, но это совсем другое дело. В жизни моей я всегда за старшего — взрослыми не были ни мать, ни мужья, ни друзья. А в этой старухе было что-то такое, что заранее хотелось согласиться со всем, что она ни скажет… Вошли в ее дом. Она зажгла свет — в прихожей начинались стеллажи с книгами, и они уходили в глубь квартиры. Она отметила мой взгляд. — Это библиотека моего покойного мужа. Он читал на пяти языках. И масса книг по искусству. Надо найти хорошие руки, кому бы это оставить… Тут я вспомнила, что именно говорила мне Карин: Эстер — бездетная вдова, довольно богатая, очень одинокая. Почти все родственники погибли во время войны. |
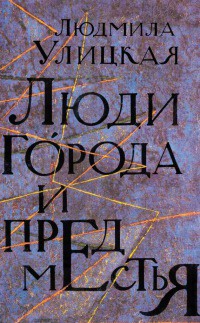
 Вернуться к просмотру книги
Вернуться к просмотру книги
 Перейти к Оглавлению
Перейти к Оглавлению
 © 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно
© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно