
|
||
|
|
||
|
|
Онлайн книга - Берлинский фокус | Автор книги - Луиза Уэлш
Cтраница 1

Ах, милый сплетник, соблазнитель, я Искал тебя, чтоб спрятаться в тепло, С тех пор как грудь оставил. Я был твоей послушной собачонкой; Любой священник крест на мне поставит. И что ж? Спусти я кучу денег на тебя За ночь, как на божественную шлюху, И приползи с утра с мольбою о лекарстве — Трактирщик вышвырнет, как нищего, за дверь. Падрейк Фэллон. [1] «Беседа Рафтери со стаканом виски» I
Вчера я, как обычно, шел мимо художественного салона на Квин-стрит. Но вместо того, чтобы шагать дальше, втянув голову в плечи, сквозь дождь и ветер, я толкнул дверь и вошел. Без всякой цели, просто погреться, хотя кто знает? Тепло оглушило меня, звякнул колокольчик, и тощая девица выскочила из-за стойки. Я выдал улыбку, от которой в былые времена зрители приходили в восторг, но в магазинчике ей было явно тесновато: девица бросила взгляд на парня, расставлявшего коробки с акварелью, и они оба не отрывали от меня глаз, пока я, насквозь мокрый, шел по проходам. Их подозрительность раздражала, и как я ни скалился, выглядел все равно отвратительно. Они стояли, молодые, красивые и пушистые в окружении разноцветных красок и запаха карандашной стружки. А тут – я. Я прикидывал, как бы заставить упаковку беличьих кистей исчезнуть в рукаве и материализоваться в кармане куртки, и тут отвлекся на вспышку света. Моя рука замерла на полпути к добыче, парочка подошла ближе, но мне Вдруг расхотелось мстить им за нерадушный прием. На одном из столов под вывеской «РАСПРОДАЖА», банальной для супермаркета, но вульгарной для художественного салона, были небрежно разложены ежедневники всех цветов радуги. Под пристальным взором двух продавцов я подошел и выровнял стопку. Может, девица углядела в этом критику, потому как тут же холодно поинтересовалась: – Вам помочь? Я покачал головой, не утруждая себя улыбкой. Девчонка упустила свой шанс. При ближайшем рассмотрении я понял, почему ежедневники уценили: в правом верхнем углу золотым тиснением значилось «2005». Кому в здравом уме придет в голову начать записи с сентября? Я взял темно-коричневую, почти черную книжку в руки: обложка из искусственной кожи, испещренная крошечными складочками, точно лицо – морщинами. Как дневник он, может, и устарел, но как блокнот сгодится – я могу обойтись без дат. Я положил его на прилавок и сказал мрачной девице: – Одну минуту. Сейчас расплачусь. Я целую вечность выбирал ручку, с которой мог бы ужиться, и рисовал каракули на листках бумаги, заботливо разложенных на прилавке. Сначала я выводил звездочки и снежинки, а устав от них, принялся писать свое имя: «Уильям, Уильям, Уильям», – пока это не стало казаться странным, и тогда я добавил «Сильви», что смотрелось совсем уж дико среди чужих закорючек. Вернувшись домой, я положил пакет на туалетный столик, вытер волосы полотенцем и подумал, что только дураку придет в голову написать историю, которую он и рассказать не может. Однако утром пакет никуда не делся – блокнот и ручка лежали на столе и ждали, когда я опишу историю нашей с ними вчерашней встречи. Письменный стол – роскошь для моей комнаты, поэтому я сижу за туалетным столиком. Я завесил зеркало красным шелковым шарфом, что когда-то помогал мне творить чудеса. Из его складок я извлекал голубей, бриллианты и тикающие часы, но теперь, как бы я ни старался, нахожу под ними только свое лицо. Невозможно уйти от себя: я смотрю в изгибы шарфа и сквозь материю вижу черты – размытые, кроваво-красные, но неизбежно мои. Обычное лицо, мрачный взгляд, спадающие на глаза темные волосы, излом бровей, наводящий на мысль о жестоком или беспокойном нраве, – но ничего, что могло бы выделить меня из толпы. Начну с описания комнаты. Я живу здесь уже полгода и успел хорошо ее изучить. На полу зеленый ковролин отдельными кусками – удобно, можно заменить, если что. Хотя, судя по обилию пятен, эта мысль никому не приходила в голову, а возможно, этот блевотный оттенок давно сняли с производства. Кровать занимает почти всю комнату, прижимаясь к стене деревянным скелетом. Иногда я думаю о том, что может скрываться под матрасом: порножурналы, использованные презервативы, содержимое которых превратилось в засохшую корку, паспорт покойника, черные от крови тампоны – но мне все лень заняться расследованием. Я так и не удосужился поднять матрас, хотя пятна ясно свидетельствуют, что и до меня на нем спали. Слева входная дверь. Поначалу, каждый раз, как я вваливался домой, дверь ударялась о кровать, но на третий день я ее придержал и понял, что обжился здесь. Эта мысль мучила меня до вечера. Рядом с кроватью шкаф из орехового шпона. По ночам я ищу в линиях дерева лица. Старик с раздутым черепом, женщина с рассеченной губой. Опасная игра. В красно-коричневом все выглядит жутко, страшные картины стоят перед глазами и мешают уснуть – хохочущий клоун, девушка с разинутым ртом и простреленным лбом. Комната маленькая, но шкаф просто огромный – вполне себе гроб для парочки крепких ребят. Может, здесь я закончу свои дни, скрючившись внутри, слушая вздохи нового постояльца, вдыхая легкий запах камфары, гладя шелковую подкладку фрака, висящего надо мной, пытаясь понять, что же все-таки произошло. Справа от кровати окно. Возможно, в слоях грязи на стекле археолог найдет что-нибудь интересное. Может, следы запряженных лошадьми экипажей и загаженных улиц. Наверняка там найдется место и визгливым автобусам Глазго, и ползущим вереницам машин, которые останавливаются на светофоре и тянутся через перекресток с утра до ночи и снова до утра. Окна комнаты выходят на юг, и в нее заглядывал бы солнечный свет, если б не тень от дома напротив. Его водостоки забиты мусором и плесенью. Он – точная копия моего. Темные окна, втиснутые в песчаник, пестрые занавески. Я ищу в этих окнах свое лицо – унылого субъекта с виноватым взглядом. Если кому-то придет в голову обыскать мою комнату, он вряд ли поймет, кто я такой. Найдя в тумбочке у кровати запечатанные колоды игральных карт, он скажет, что я игрок. А по толстой пачке банкнот решит, что удачливый. Ванная комната в коридоре. Лет десять назад мне пришлось бы делить ее с соседями, но город меняется, и за счет нескольких незаконных перепланировок домовладелец умудрился каждому обеспечить отдельный душ и туалет. Сколько таких одиночек по всему городу – сидят в одинаковых комнатушках, уставившись в стену, ждут, когда откроется бар. И вот момент настал. Одиннадцать утра – пора выйти в люди и принять первую дозу успокоительного.
|
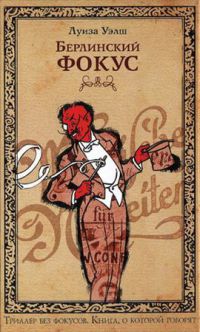
 Вернуться к просмотру книги
Вернуться к просмотру книги
 Перейти к Оглавлению
Перейти к Оглавлению
 Перейти к Примечанию
Перейти к Примечанию
 © 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно
© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно