
|
||
|
|
||
|
|
Онлайн книга - Веселая наука | Автор книги - Фридрих Ницше
Cтраница 1

Мой собственный дом — мое пристрастье, Никому и ни в ч ем я не подражал, И — мне все еще смешон каждый Мастер, Кто сам себя не осмеял. Над моей входной дверью Предисловие к второму изданию
1 Этой книге, быть может, недостаточно только одного предисловия, и все-таки остается под большим вопросом, могут ли помочь предисловия тому, кто сам не пережил чего-либо подобного, приблизиться к переживаниям этой книги. Она словно написана на языке весеннего ветра: в ней есть заносчивость, беспокойство, противоречивость, мартовская погода, нечто постоянно напоминающее как о близости зимы, так и опобеде над зимой, победе, которая будет одержана, должна быть одержана, уже, быть может, одержана… Благодарность непрестанно бьет из нее ключом, словно случилось как раз самое неожиданное, благодарность выздоравливающего, — ибо выздоровлением и было самое неожиданное. “Веселая наука” — это означает сатурналии духа, который терпеливо противостоял ужасно долгому гнету — терпеливо, строго, хладнокровно, не сгибаясь, но и не питая иллюзий, — и который теперь сразу прохватывается надеждой, надеждой на здоровье, опьянением выздоровления. Что же удивительного, если при этом обнаруживается много неблагоразумного и дурачливого, много шаловливых нежностей, растраченных и на такие проблемы, которые имеют колючую шкуру и которым нипочем любые соблазны и приманки. Вся эта книга и есть не что иное, как веселость после долгого воздержания и бессилия, ликование возвращающейся силы, пробудившейся веры в завтра и послезавтра, внезапного чувства и предчувствия будущего, близких авантюр, наново открытых морей, вновь дозволенных, вновь поволенных целей. А чего только не оставил я позади себя! Это подобие пустыни, истощение, неверие, оледенение в самом разгаре юности, эта преждевременно вставная старость, эта тирания страдания, которую все еще превосходила тирания гордости, отклонившей выводы страдания, — а выводы и были самим утешением. — это радикальное одиночество, как необходимая оборона от ставшего болезненно ясновидческим презрения к человеку, это принципиальное самоограничение во всем, что есть горького, терпкого, причиняющего боль в познании, как то предписывало отвращение, постепенно выросшее из неосмотрительной духовной диеты и изнеженности — ее называют романтикой, — о, кто бы смог сопережить это со мною! А если бы кто и смог, он наверняка приписал бы мне нечто большее, чем эту толику дурачества, распущенности, “веселой науки”, - к примеру, горсть песен, которые приложены на этот раз к книге, — песен, в которых поэт непростительным образом потешается над всеми поэтами. — Ах, отнюдь не на одних поэтов с их прекрасными “лирическими чувствами” должен излить свою злость этот вновь воскресший: кто знает, какой жертвы ищет он себе, какое чудовище пародийного сырья привлечет его в скором времени? “Incipit tragoedia” — так называется оно в заключение этой озабоченно-беззаботной книги: держите ухо востро! Что-то из ряда вон скверное и злое предвещается здесь: “Incipit parodia”, в этом нет никакого сомнения… 2 Но оставим господина Ницше: что нам до того, что господин Ницше снова стал здоровым?.. В распоряжении психолога есть мало столь привлекательных вопросов, как вопрос об отношении между здоровьем и философией, а в случае, если он и сам болеет, он вносит в собственную болезнь всю свою научную любознательность. Ибо предполагается, что тот, кто есть личность, имеет по необходимости и философию своей личности: но здесь есть одно существенное различие. У одного философствуют его недостатки, у другого — его богатства и силы. Первый нуждается в своей философии, как нуждаются в поддержке, успокоении, лекарстве, избавлении, превозношении, самоотчуждении; у последнего она лишь красивая роскошь, в лучшем случае — сладострастие торжествующей благодарности, которая в конце концов должна космическими прописными буквами вписываться в небо понятий. Но в других, более обыкновенных случаях, когда философия стимулируется бедственным положением, как это имеет место у всех больных мыслителей — а больные мыслители, пожалуй, преобладают в истории философии, — что же выйдет из самой мысли, подпадающей гнету болезни? Вот вопрос, касающийся психолога, и здесь возможен эксперимент. Не иначе, как это делает путешественник, предписывающий себе проснуться к назначенному часу и затем спокойно предающийся сну, так и мы, философы, в случае, если мы заболеваем, предаемся на время телом и душою болезни — мы как бы закрываем глаза на самих себя. И подобно тому, как путешественник знает, что в нем не спит нечто, отсчитывая часы и вовремя пробуждая его, так и мы знаем, что решительный момент застанет нас бодрствующими, — что тогда воспрянет это самое нечто и поймает дух с поличным, т. е. уличит его в слабости, или в измене, или в покорности, или в помрачении и как бы там еще не назывались все болезненные состояния духа, которые в здоровые дни сдерживаются гордостью духа (ибо как гласит старая поговорка: “Три гордых зверя делят трон — гордый дух, павлин и конь”). После такого самодознания и самоискушения учишься смотреть более зорким взором на все, о чем до сих пор вообще философствовали; разгадываешь лучше, чем прежде, непроизвольные околицы, плутания, пригретые солнцем привалы мысли, вокруг которых вращаются и которыми совращаются страждущие мыслители именно в качестве страждущих; теперь уже знаешь, куда больное тело и его нужда бессознательно теснит, вгоняет, завлекает дух — к солнцу, покою, кротости, терпению, лекарству, усладе любого рода. Каждая философия, ставящая мир выше войны, каждая этика с отрицательным содержанием понятия счастья, каждая метафизика и физика, признающие некий финал, некое конечное состояние, каждое преобладающее эстетическое или религиозное взыскание постороннего, потустороннего, внележащего, вышестоящего — все это позволяет спросить, не болезнь ли была тем, что инспирировало философа. Бессознательное облегчение физиологических потребностей в мантию объективного, идеального, чисто духовного ужасает своими далеко идущими тенденциями, — и довольно часто я спрашивал себя, не была ли до сих пор философия, по большому счету, лишь толкованием тела и превратным пониманием тела. За высочайшими суждениями ценности, которыми доныне была ведома история мысли, таятся недоразумения телесного сложения, как со стороны отдельных лиц, так и со стороны сословий и целых рас. Позволительно рассматривать все эти отважные сумасбродства метафизики, в особенности ее ответы на вопрос о ценности бытия, как симптомы определенных телесных состояний, и ежели подобные мироутверждения или мироотрицания, в научном смысле, все до одного не содержат и крупицы смысла, то они все же дают историку и психологу тем более ценные указания в качестве симптомов, как уже сказано, тела, его удачливости и неудачливости, его избытка, мощности, самообладания в объеме истории или, напротив, его заторможенности, усталости, истощенности, предчувствия конца, его воли к концу. Я все еще жду, что когда-нибудь появится философский врач в исключительном смысле слова — способный проследить проблему общего здоровья народа, эпохи, расы, человечества, — врач, обладающий мужеством обострить до крайности мое подозрение и рискнуть на следующее положение: во всяком философствовании дело шло доныне вовсе не об “истине”, а о чем-то другом, скажем о здоровье, будущности, росте, силе, жизни. |
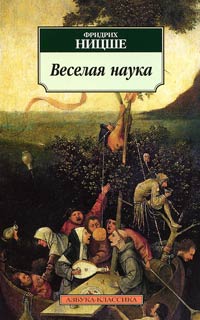
 Вернуться к просмотру книги
Вернуться к просмотру книги
 Перейти к Оглавлению
Перейти к Оглавлению
 © 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно
© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно