
|
||
|
|
||
|
|
Онлайн книга - Похождения бравого солдата Швейка | Автор книги - Ярослав Гашек
Cтраница 160

И действительно, под насыпью среди черепков вызывающе торчал ночной горшок с отбитой эмалью и изъеденный ржавчиной. Все эти предметы, негодные для домашнего употребления, начальник вокзала складывал сюда как материал для дискуссий археологов будущих столетий, которые, открыв это становище, совершенно обалдеют, а дети в школах будут изучать век эмалированных ночных горшков. Подпоручик Дуб посмотрел на этот предмет, и ему ничего не оставалось, как только констатировать, что это действительно один из тех инвалидов, который юность свою провёл под кроватью. На всех это произвело колоссальное впечатление. И так как подпоручик Дуб молчал, заговорил Швейк: — Осмелюсь доложить, господин лейтенант, что однажды с таким вот ночным горшком произошла презабавная история на курорте Подебрады… Об этом рассказывали у нас в трактире на Виноградах. В то время в Подебрадах начали издавать журнальчик «Независимость», во главе которого стал подебрадский аптекарь, а редактором поставили Владислава Гаека из Домажлиц. Аптекарь был большой чудак. Он собирал старые горшки и прочую дребедень, набрал прямо-таки целый музей. А этот самый домажлицкий Гаек позвал в гости своего приятеля, который тоже писал в газеты. Ну нализались они что надо, так как уже целую неделю не виделись. И тот ему обещал за угощение написать фельетон в эту самую «Независимость», в независимый журнал, от которого он зависел. Ну и написал фельетон про одного коллекционера, который в песке на берегу Лабы нашёл старый железный ночной горшок и, приняв его за шлем святого Вацлава, поднял такой шум, что посмотреть на этот шлем прибыл с процессией и с хоругвями епископ Бриних из Градца. Подебрадский аптекарь решил, что это намёк, и подал на Гаека в суд. Подпоручик с большим удовольствием столкнул бы Швейка вниз, но сдержался и заорал на всех: — Говорю вам, не глазеть тут попусту! Вы все меня ещё не знаете, но вы меня узнаете! Вы останетесь здесь, Швейк, — приказал он грозно, когда Швейк вместе с остальными направился к вагону. Они остались с глазу на глаз. Подпоручик Дуб размышлял, что бы такое сказать пострашнее, но Швейк опередил его: — Осмелюсь доложить, господин лейтенант, хорошо, если удержится такая погода. Днём не слишком жарко, а ночи очень приятные. Самое подходящее время для военных действий. 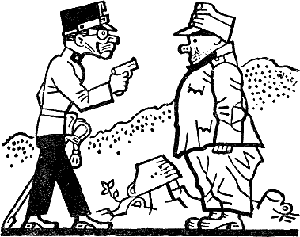
Подпоручик Дуб вытащил револьвер и спросил: — Знаешь, что это такое? — Так точно, господин лейтенант, знаю. У нашего обер-лейтенанта Лукаша точь-в-точь такой же. — Так запомни, мерзавец, — строго и с достоинством сказал подпоручик Дуб, снова пряча револьвер. — Знай, что дело кончится очень плохо, если ты и впредь будешь вести свою пропаганду. Уходя, подпоручик Дуб довольно повторял про себя: «Это я ему хорошо сказал: «про-па-ган-ду, да, про-па-ган-ду!..» Прежде чем влезть в вагон, Швейк прошёлся немного, ворча себе под нос: — Куда же мне его зачислить? — И чем дальше, тем отчётливее в сознании Швейка возникало прозвище «полупердун». В военном лексиконе слово «пердун» издавна пользовалось особой любовью. Это почётное наименование относилось главным образом к полковникам или пожилым капитанам и майорам. «Пердун» было следующей ступенью прозвища «дрянной старикашка»… Без этого эпитета слово «старикашка» было ласкательным обозначением старого полковника или майора, который часто орал, но любил своих солдат и не давал их в обиду другим полкам, особенно когда дело касалось чужих патрулей, которые вытаскивали солдат его части из кабаков, если те засиживались сверх положенного времени. «Старикашка» заботился о солдатах, следил, чтобы обед был хороший. Однако у «старикашки» непременно должен быть какой-нибудь конёк. Как сядет на него, так и поехал! За это его и прозывали «старикашкой». Но если «старикашка» понапрасну придирался к солдатам и унтерам, выдумывал ночные учения и тому подобные штуки, то он становился из просто «старикашки» «паршивым старикашкой» или «дрянным старикашкой». Высшая степень непорядочности, придирчивости и глупости обозначалась словом «пердун». Это слово заключало всё. Но между «штатским пердуном» и «военным пердуном» была большая разница. Первый, штатский, тоже является начальством, в учреждениях так его называют обычно курьеры и чиновники. Это филистер-бюрократ, который распекает, например, за то, что черновик недостаточно высушен промокательной бумагой и т. п. Это исключительный идиот и скотина, осёл, который строит из себя умного, делает вид, что всё понимает, всё умеет объяснить, и к тому же на всех обижается. Кто был на военной службе, понимает, конечно, разницу между этим типом и «пердуном» в военном мундире. Здесь это слово обозначало «старикашку», который был настоящим «паршивым старикашкой», всегда лез на рожон и тем не менее останавливался перед каждым препятствием. Солдат он не любил, безуспешно воевал с ними, не снискал у них того авторитета, которым пользовался просто «старикашка» и отчасти «паршивый старикашка». В некоторых гарнизонах, как, например, в Тренто, вместо «пердуна» говорили «наш старый нужник». Во всех этих случаях дело шло о человеке пожилом, и если Швейк мысленно назвал подпоручика Дуба «полупердуном», то поступил вполне логично, так как и по возрасту, и по чину, и вообще по всему прочему подпоручику Дубу до «пердуна» не хватало ещё пятидесяти процентов. Возвращаясь с этими мыслями к своему вагону, Швейк встретил денщика Кунерта. Щека у Кунерта распухла, он невразумительно пробормотал, что недавно у него произошло столкновение с господином подпоручиком Дубом, который ни с того ни с сего надавал ему оплеух: у него, мол, имеются определённые доказательства, что Кунерт поддерживает связь со Швейком. — В таком случае, — рассудил Швейк, — идём подавать рапорт. Австрийский солдат обязан сносить оплеухи только в определённых случаях. Твой хозяин переступил все границы, как говаривал старый Евгений Савойский: «От сих до сих». Теперь ты обязан идти с рапортом, а если не пойдёшь, так я сам надаю тебе оплеух. Тогда будешь знать, что такое воинская дисциплина. В Карпинских казармах был у нас лейтенант по фамилии Гауснер. У него тоже был денщик, которого он бил по морде и награждал пинками. Как-то раз он так набил морду этому денщику, что тот совершенно обалдел и пошёл с рапортом, а при рапорте всё перепутал и сказал, что ему надавали пинков. Ну, лейтенант доказал, что солдат врёт: в тот день он никаких пинков ему не давал, бил только по морде. Конечно, разлюбезного денщика за ложное донесение посадили на три недели. Однако это дела не меняет, — продолжал Швейк. — Ведь это как раз то самое, что любил повторять студент-медик Гоубичка. Он говорил, что всё равно, кого вскрыть в анатомическом театре, человека, который повесился или который отравился. Я иду с тобой. Пара пощёчин на военной службе много значат.
|
 Вернуться к просмотру книги
Вернуться к просмотру книги
 Перейти к Оглавлению
Перейти к Оглавлению
 Перейти к Примечанию
Перейти к Примечанию
 © 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно
© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно