
|
||
|
|
||
|
|
Онлайн книга - Похождения бравого солдата Швейка | Автор книги - Ярослав Гашек
Cтраница 120

— Удивляюсь, — прервал Швейка явно задетый телефонист Ходоунский, — почему именно я должен быть мишенью для идиотских острот? — Ходоунский, который содержит частное сыскное бюро с фирменной маркой «Око», как у святой троицы, не родственник ли ваш? — невинно спросил Швейк. — Очень люблю частных сыщиков. Несколько лет тому назад я отбывал воинскую повинность вместе с одним частным сыщиком по фамилии Штендлер. Голова у него напоминала еловую шишку, и наш фельдфебель любил повторять, что за двадцать лет службы он видел много шишкообразных военных голов, но такой еловой шишки даже представить себе не мог. «Послушайте, Штендлер, — говорил он ему, — если бы в нынешнем году не было манёвров, ваша шишковидная голова даже для военной службы не пригодилась бы. Ну, а теперь по вашей шишке будет, по крайней мере, пристреливаться артиллерия, когда мы придём в такую местность, где не найдём лучшего ориентира». Ну и натерпелся же бедняга от него! Иногда во время похода вышлет его фельдфебель на пятьсот шагов вперёд, а потом командует: «Направление — голова-шишка!» Этому самому Штендлеру и как частному сыщику страшно не везло. Бывало, он частенько рассказывал, сидя в кантине, сколько пришлось претерпеть ему на этой службе! Получает он, например, задание: выследить супругу одного клиента. Прибегает такой клиент сам не свой в их контору и даёт поручение разузнать, не снюхалась ли его супруга с другим, а если снюхалась, то с кем снюхалась, где и как снюхалась. Или же наоборот. Этакая ревнивая баба захочет выследить, с кем шляется её муж, чтобы иметь основание почаще устраивать дома скандалы. Штендлер был человек образованный, говорил о нарушении супружеской верности в самых деликатных выражениях и, бывало, чуть не плакал, рассказывая нам, как от него требовали, чтобы он застиг «её» или «его» in flagranti. [173] Другой бы, скажем, обрадовался, если бы застал такую парочку in flagranti и только глаза бы пялил, а Штендлер, по его словам, в таких случаях сам терялся. Он всегда изысканно выражался и говорил, что смотреть на все эти похабные гнусности у него нет больше сил. Бывало, у нас слюнки текут, как у собаки, мимо которой пронесли варёную ветчину, при его рассказах о позах, в каких он заставал разные парочки. Когда нас оставляли без отпуска в казарме, он нам всё это очень тонко описывал. «В таком положении, говорит, я видел пани такую-то с паном таким-то, — и сообщал их адреса. И был очень грустный при этом. — А сколько пощёчин я получил с той и другой стороны! Но больше всего меня угнетало, что я брал взятки. Одну взятку до самой смерти не забуду. Он голый, и она голая. В отеле — и не заперлись на крючок! Вот дураки! На диване они не поместились, потому что оба были толстые. Резвились на ковре, словно котята. А ковёр такой замызганный, пыльный, весь в окурках. Когда я вошёл, оба вскочили, он встал передо мной, руку держит фиговым листком. Она же повернулась ко мне спиной, на коже ясно отпечатался рисунок ковра, а к хребту прилип окурок. „Извините, говорю, пан Земек, я частный детектив Штендлер из бюро Ходоунского, и мой служебный долг поймать вас in flagranti, согласно заявке вашей уважаемой супруги. Дама, с которой вы находитесь в недозволенной связи, есть пани Гротова“. Во всю свою жизнь я не видел более спокойного гражданина. „Разрешите, — сказал он как ни в чём не бывало, — я оденусь. Во всём единственно виновата моя супруга, которая своей необоснованной ревностью вынуждает меня вступать в недозволенную связь и, побуждаемая необоснованным подозрением, оскорбляет меня как супруга упрёками и отвратительным недоверием. Если, однако, не остаётся никакого сомнения и позора уже не скрыть… Где мои кальсоны?“ — спросил он спокойно. „На постели“. Надевая кальсоны, он продолжал: „Если уже позор скрыть невозможно, остаётся одно: развод. Но этим пятно позора не смоешь. Вообще развод — вещь серьёзная, — рассуждал он, одеваясь. — Самое лучшее, если моя супруга вооружится терпением и не даст повода для публичного скандала. Впрочем, делайте, что хотите. Я вас оставляю здесь наедине с этой госпожой“. Пани Гротова между тем забралась в постель. Пан Земек пожал мне руку и вышел». Я уже не помню хорошенько, как нам дальше рассказывал пан Штендлер, что он потом ей говорил. Только он весьма интеллигентно беседовал с этой дамой в постели, очень культурно рассуждал, например, что брак вовсе не установлен для того, чтобы каждого вести прямо к счастью, и что долг каждого из супругов побороть похоть, а также очистить и одухотворить свою плоть. «При этом я, — рассказывал Штендлер, — начал раздеваться, и, когда разделся, одурел и стал диким, словно олень в период случки, в комнату вошёл мой хороший знакомый Штах, тоже частный детектив из конкурировавшего с нами бюро Штерна, куда обратился пан Грот за помощью относительно своей жены, которая якобы была с кем-то в связи. Этот Штах сказал только: «Ага, пан. Штендлер in flagranti с пани Гротовой! Поздравляю!» — закрыл тихо дверь и ушёл. «Теперь уж всё равно, — сказала пани Гротова, — нечего спешить одеваться. Рядом со мною достаточно места». — «У меня, милостивая государыня, действительно речь идёт о месте», — ответил я, сам не понимая, что говорю. Помню только, я рассуждал о том, что если между супругами идут раздоры, то от этого страдает, между прочим, и воспитание детей». Далее он нам рассказал, как он быстро оделся, как вовсю удирал и как решил обо всём немедленно сообщить своему хозяину, пану Ходоунскому. По дороге он зашёл подкрепиться, а когда пришёл в контору, на нём уже был поставлен крест. Там уже успел побывать Штах, которому его хозяин приказал нанести удар Ходоунскому и показать ему, что представляет собою сотрудник его частного сыскного бюро. А Ходоунский не придумал ничего лучшего, как немедленно послать за женой пана Штендлера, чтобы она сама с ним расправилась, как полагается расправиться с человеком, которого посылают по служебным делам, а сотрудник конкурирующего учреждения застаёт его in flagranti. «С той самой поры, — говорил пан Штендлер, когда об этом заходила речь, — моя башка стала ещё больше походить на еловую шишку». — Так будем играть в «пять — десять»? Игра продолжалась. Поезд остановился на станции Мошон. Был уже вечер, — из вагона никого не выпустили. Когда поезд тронулся, в одном вагоне раздалось громкое пение. Певец словно хотел заглушить стук колёс. Какой-то солдат с Кашперских гор, охваченный религиозным экстазом, диким рёвом воспевал тихую ночь, которая спускалась на венгерские долины: Gute Nacht! Gute Nacht! Allen Müden sei's gebrach.. Neigt der Tag stille zu Ende, ruhen alle fleis'gen Hande, Bis der Morgen ist erwacht. Gute Nacht! Gute Nacht! [174]
|
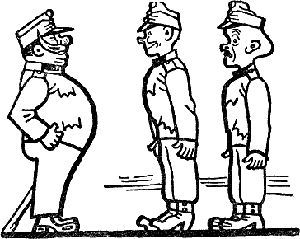
 Вернуться к просмотру книги
Вернуться к просмотру книги
 Перейти к Оглавлению
Перейти к Оглавлению
 Перейти к Примечанию
Перейти к Примечанию
 © 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно
© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно