
|
||
|
|
||
|
|
Онлайн книга - Бочка но-шпы и ложка яда | Автор книги - Татьяна Полякова
Cтраница 1

* * *
Все началось с того, что тетушка Сусанна выпала из окна. По-настоящему она не была моей тетей, она была дальней родственницей моего второго мужа и досталась мне по наследству вместе с его славным именем и домом, который он изрядно изуродовал, пытаясь перестроить по собственному проекту. Старушка смутно помнила русско-японскую войну, и по самым скромным подсчетам ей давно перевалило за сотню лет, что отнюдь не мешало Сусанне вести чрезвычайно активный образ жизни. Лет двадцать назад она начала обратный отсчет своим годам, и теперь выходило, что ей восемьдесят семь. Утверждение, начисто лишенное логики. Какая в этом случае русско-японская война? Софья заявила, что старушка просто выжила из ума, с чем я решительно не могла согласиться. Несмотря на свой преклонный возраст, тетка Сусанна отличалась твердой памятью (особенно на чужие проступки), невероятным ехидством и редким умением довести до белого каления любую человеческую особь, будь то младенец или убеленный сединами философ. Достаточно было одного взгляда на сморщенное личико Сусанны с пакостной улыбкой и злыми глазками, чтобы захотелось незамедлительно придушить ее. Софья неоднократно высказывала удивление, почему я терплю Сусанну в своем доме, коли она мне даже не родственница. Кстати сказать, с моим вторым мужем они терпеть друг друга не могли и ругались как минимум трижды в день. Однажды Костас даже запер ее в кладовке. Поступок, безусловно, недостойный мужчины. Старушка, как только выбралась из заключения, огрела его палкой, на которую опиралась при ходьбе, и сумела-таки пробить ему череп. И это несмотря на то, что отличалась субтильностью, а к тому времени и вовсе усохла, а голова моего супруга, по мнению его недоброжелателей, славилась невероятной крепостью (недоброжелатели произносили это словосочетание издевательски, имея в виду, что супруг невероятно туп). Так вот, несмотря на застарелую вражду между родственниками и давнюю кончину Костаса, Сусанна продолжала жить в нашем доме. Этому было две причины. Первая: в доме для престарелых старушку за ее дурной нрав непременно кто-нибудь придушит, вторая: отличаясь острым взглядом и злым языком, она не давала мне возможности расслабиться, всегда поддерживая в нужном тонусе. Если Сусанна ядовито замечала: «Что-то ты скверно выглядишь», надо было срочно отправляться к косметологу, пока я действительно не начала выглядеть скверно. Домашние ее терпеть не могли, что и неудивительно. Больше всех от нее доставалось поварихе Розе и домработнице Наталье. Татарка Роза — существо доброе, милое и улыбчивое — при виде Сусанны стискивала зубы с такой свирепостью, что становилась похожа лицом на Тамерлана. Тетушке сие доставляло явное удовольствие. Всем в доме Сусанна дала прозвища. Меня неизменно называла аферисткой, Софью — приживалкой, детей моего третьего мужа соответственно — лоботрясом и дурочкой, Розу — отравительницей, а Наталью — грязнулей. Любви домашних ей это не прибавило. Они бурчали под нос, что старушка задержалась на этом свете, мол, пожила, пора и честь знать. Каюсь, эти мысли иногда приходили в голову и мне, но, к чести моей, лишь в минуты слабости. В глубине души я была уверена, что Сусанна существо бессмертное, посланное нам за грехи, и не сомневалась, что она переживет меня и отойдет по наследству детям. И то, что Сусанна едва нас не покинула, явилось для меня громом среди ясного неба. В то утро мы с Софьей пили чай на веранде и составляли список гостей, которые ожидались завтра. Специально мы никого не приглашали, решив, что те, кому надо, сами явятся, и теперь прикидывали, «кому надо». Повод, для того чтобы собраться, был невеселым, но ответственным: завтра исполнялся ровно год, как мой муж, Борис Артемьев, скончался от цирроза печени, оставив мне своих двоих детей от первого брака и светлую память. Литературная общественность до сих пор скорбит по поводу этой утраты, так как мой муж был известным беллетристом. Настолько известным, что читатели (особенно читательницы) сходили по нему с ума. Популярность стала для супруга тяжкой ношей, он запил, как это водится у российских гениев, и скоропостижно скончался на пятьдесят третьем году жизни, правда, оставив два практически законченных романа (возможно, даже три или четыре, он был очень плодовит). Сусанна как-то высказалась по этому поводу: — И когда он только пишет, ведь с утра пьян в стельку. — Фолкнер пил даже больше, — нашлась Софья, — и умудрился стать классиком. — Вот уж не знаю, — ядовито усмехнулась Сусанна, что было истинной правдой: Фолкнера она знать не знала. — Гений может творить в любом состоянии, — гнула свое Софья, хоть и знала, что спорить с Сусанной — зря терять время. — Это Борька-то гений? — хихикала старушка. — Дурак он, прости господи, никчемный мужичишко. И если б наша аферистка не подобрала его, он до сих пор валялся бы на помойке, где ему самое место. Софья вздыхала, а я лишь пожимала плечами. Кое-что в словах старушки вполне могло сойти за правду. На момент нашего знакомства с Борисом Петровичем он был никому не известным гением в возрасте сорока пяти лет, которого никто упорно не хотел печатать. Иногда ему удавалось запихнуть рассказик в какой-нибудь толстый журнал, но, так как журналы сами бедствовали, гонораров на хлеб насущный ему не хватало. Борис Петрович существовал на деньги брата. Он впал в пессимизм, ненавидел всех, особенно издателей и писателей, успешным собратьям по ремеслу яростно завидовал и исходил лютой злобой. Я в то время вдовствовала, только что похоронив своего второго мужа, известного художника Костаса Одинцова. На самом деле его звали Константином, но ему казалось, что «Костас» звучит гораздо впечатляюще, и он придумал себе бабку — то ли грузинку, то ли гречанку. Может, такая и была в наличии, но из всей его родни я знала лишь Сусанну, которая изводила Костаса насмешками над его живописью и называла мазилкой. Кстати, когда мы познакомились с Костасом, он тоже числился непризнанным гением. Наш брак, то есть обрушившееся на него счастье, перевернул душу художника, и он внезапно создал шедевр (так считали многочисленные критики), потом второй, потом шедевры бесперебойно последовали один за другим. Картины охотно раскупали иностранцы. Теперь они находятся во многих частных собраниях и музеях мира, а стоят столько, что мне иногда становится неловко. Так как первым шедевром был мой портрет, да и потом Костас очень часто рисовал меня, малая толика его славы досталась и мне. |
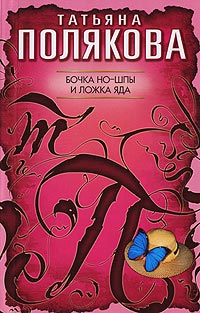
 Вернуться к просмотру книги
Вернуться к просмотру книги
 © 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно
© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно