
|
||
|
|
||
|
|
Онлайн книга - Горе мертвого короля | Автор книги - Жан-Клод Мурлева
Cтраница 73

— Как тебе вот это, вояка хренов? Погляди, погляди, твоя работа… Чтоб ты тоже тут сдох, как я издыхаю! И плюнул в его сторону. Никогда еще Герольфа так не оскорбляли в лицо, но он только отвернулся и прошел мимо. В конюшне, меся сапогами перегнивший навоз, сошлись четверо: сам Герольф, два генерала и Берг. — Где остальные? Остальные были убиты. — Надо прекращать сражение, — сказал один из генералов с плохо скрытой тревогой. На лбу у него выступила испарина. — Надо прекращать, иначе мы поляжем здесь все до единого. — Сдаться? Ты это хочешь сказать? — Не совсем. Они предоставляют нам возможность уйти на запад, оставляют коридор для вывода войск. Такая у них военная традиция: они дают противнику шанс убраться восвояси. Я считаю, надо воспользоваться этим шансом: обговорить условия и организованно отступить. Это не позорно. Надо спасать то, что осталось от нашей армии. Герольф вопросительно посмотрел на второго генерала. — Он прав, — бесстрастно подтвердил тот. — Надо уходить. Всем — и как можно скорее. Иначе это место станет нашей могилой. — Берг? — Не знаю. Я — как ты. Куда ты, туда и я. — Я спрашиваю, что ты думаешь. — Я думаю как ты. Впервые за годы знакомства с Бергом, то есть за двадцать с лишним лет, Герольфа взбесило это безоговорочное подчинение. Он рявкнул: — Нет! Ты мне свое мнение скажи! Твое собственное! Ты имеешь право на собственное мнение! Ты же не собака моя! Грузный лейтенант не сморгнул. Он смотрел на своего господина не столько со страхом, сколько с тоской. Словно больше всего боялся не умереть, а быть отброшенным. — Мое мнение, — с трудом выговорил он, — мое мнение такое, Герольф, что надо уходить. Человек, который подчинил себе и Малую Землю, и Большую, а потом замахнулся на завоевание Континента, опустил голову и глубоко вздохнул. Губы у него кривились. Все молчали. — Уйти? Мне? — проговорил он наконец так тихо, что остальные едва расслышали. — Мне уйти? Вступить в переговоры? — Он произносил эти слова, как самые грязные ругательства. — Никогда! Я не смог бы жить после этого. Вы, если хотите, ступайте, передаю вам все полномочия. Соглашайтесь на этот их западный коридор. Может, вам еще почетный караул вдоль него выставят… Он вскинул голову и посмотрел каждому в глаза. — Имею честь, господа… Он повернулся и, медленно ступая, вышел за дверь. Внизу все еще сражались. Трещали во тьме выстрелы. Он сел на коня и шагом тронулся вниз по склону, туда, где шел бой. — Подожди меня! — окликнул его Берг, вышедший следом. — Подожди, Герольф, я с тобой. Владыка Большой Земли дал себя догнать, и они поехали бок о бок. — А помнишь, Берг, как мы ребятами рубились на мечах там, на Малой Земле? — Помню. — Сколько нам тогда было? Лет восемь, девять? — Да, что-то вроде того. — И у нас были деревянные мечи… — Да, и крышки от баков вместо щитов… — Мы становились в верхнем конце улицы и оттуда сваливались на нижних, на эту шваль с рыбного рынка. — Да, нас была целая команда, всем командам команда, а ты был наш командир. — Да, а ты был мой лейтенант. — Да. За разговором оба не спеша вынули шпаги из ножен. Они ехали вплотную друг к другу, их кони почти соприкасались боками. Чуть выше справа пылал «дворец», и в ночном небе над ним багровело зарево. Снизу, с поля битвы, доносились разноголосые крики. — Мы тогда клялись драться до победы или смерти, так ведь? — Да, мы говорили: «Победа или смерть!» — и с диким ревом кидались вниз по улице. Герольф рассмеялся. — Точно! Они, небось, от одного нашего крика обделывались, эти рыбоеды, прежде чем мы на них налетали! Он пустил коня рысью, Берг тоже. — Ну что, Берг, зададим им хорошую трепку, этим нижним, рыбоедам вонючим? — Зададим, Герольф! — Тебе страшно, Берг? — Нет, Герольф, не страшно. — Тогда вперед! Победа или смерть! — Победа или смерть! Герольф пустил коня в галоп и погнал напрямик вниз по склону. Берг пришпорил своего и поскакал за ним. 13
Где ты?
Где ты, Лия? Я так давно тебя ищу. Я вижу тебя повсюду, а тебя нигде нет. Где ты? Ведь не думаешь же ты, что я умер? Скажи, моя маленькая вольная телочка, моя великая любовь, моя нежная, ты ведь знаешь, что я не могу покинуть тебя вот так, не обняв, не прижав к себе так крепко, что никто не смог бы нас оторвать друг от друга. Не думаешь же ты, что я умер, не простившись с тобой, когда у нас вся жизнь впереди, чтобы ласкать друг друга, смеяться… ziliadin… учиться друг у друга новым словам. Скажи, моя любовь, ты ведь не думаешь, что я умер? Когда я вылез из этой дыры, я был гаже всякой крысы. Худой, всклокоченный, бледный как смерть. На меня, должно быть, жутко было смотреть, но я был жив. То есть сердце у меня билось, легкие вдыхали воздух, и даже умственные способности сохранились. И вот доказательство: я сумел произнести фразу, которой ты меня научила и которая, по всей вероятности, спасла меня. После свидания с Бриско я долго еще ничего не чувствовал, словно опустошенный. Братишки, которого я потерял, больше не было — не было вообще нигде, кроме как в моей памяти. Поиски окончились. Рано утром пришел Леннарт. Принес мне хлеба и воды. Он спросил, не надо ли мне передать еще какое-нибудь послание. Я сказал, что надо, только мне бы еще карандаш и бумагу. Письмо я собирался написать длинное, кровью столько не напишешь. Довольно скоро он вернулся, приоткрыл люк ровно настолько, чтобы просунуть блокнот и огрызок карандаша, и бросил их мне. Несомненно, это было не положено, более того, запрещено. Он здорово рисковал. С этими своими круглыми очочками он выглядел робким, даже трусоватым, а оказался храбрым парнем. К тому же он единственный из всех солдат, каких я только встречал за всю кампанию, кто не поленился изучить твой язык — язык неприятеля. Еще, конечно, я, но у меня была на то веская причина. Я подложил блокнот под полоску света, начал писать: «Дорогие родители…» — и мне стало до того грустно, что продолжить я так и не смог. Как сказать им правду, чтобы она не стала для них сокрушительным ударом? «Пишет вам ваш сын Александер… простите, но придется вас огорчить… я дезертировал… меня поймали… сейчас я сижу в погребе и жду расстрела…» Как сказать такое родителям? А лгать им на пороге смерти — это как? |
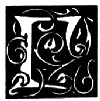
 Вернуться к просмотру книги
Вернуться к просмотру книги
 Перейти к Оглавлению
Перейти к Оглавлению
 © 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно
© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно